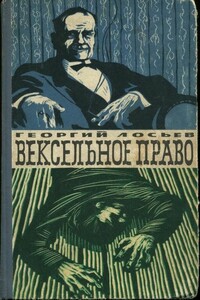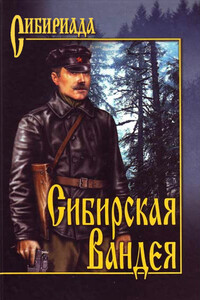Борис Аркадьевич остановился в дверях конюшни.
– Кобчик меня трижды от смерти уносил… Пусть не моей командой…
– Как хочете…
– Пойдем ко мне… поговорим.
В кабинет принесли чаю.
– Вот за это спасибо, товарищ начальник! Люблю китайское зелье…
После второго стакана Афонька скупо рассказал о себе, о мятеже, помянул об оставленном в Кривощекове Буране.
– Вот бы вам Бурана, товарищ начальник, взамен Кобчика… Пошлите меня: вмиг обернусь… Доверьтесь – не сбегу… Я всю правду вам… Прямо скажите: верите?
Борис Аркадьевич даже недопитый стакан отставил.
– Да как же жить, если человеку не верить?! А сам ты веришь людям?
– Ну, кому следоват… А коли всем не доверять – это будет не жизнь, а псарня…
– Совершенно верно, – согласился начСОЧ, – именно, псарня, а не человеческая жизнь.
– Все ж… с оглядкой, – многозначительно сказал Афонька. – Вот с конюшней вашей, к примеру… Ну, да вы к этому делу приставлены. Сами должны понимать…
Константинов листал толстый том агентурно-следственного дела о контрреволюционном эсеровском центре. Было много, ох, как много еще не разгаданных загадок: какая гадина таится под именем «Дяди Вани», публично извещавшего население о намеченных и исполненных убийствах коммунистов? Кто у них «работает» на железной дороге и организует хищения одежды для вновь открытых детских домов, кто организовал поджоги на электростанции, на мельнице, в Яренском затоне? Откуда солидная финансовая мощь центра, и в каких закоулках хранятся кожаные мешки с царским серебром и пачки сторублевок, до которых все еще падки крестьяне? А больше всего нужна Константинову подпольная офицерская организация, свившая гнездо в военном городке, где расквартированы колчаковские полки, сдавшиеся еще зимой и все еще не распущенные по чьей-то преступной воле… Да, кто-то сидит и в наших штабах и тщательно бережет силы для реставрации… Кто, кто?
Все это знает Галаган.
А Константинов не знает.
Сколько труда, сколько бессонных ночей ушло на то, чтобы распутать заячьи «петли», «сметки» и «двойки» в хитроумных ходах подпольщины! А тут можно одним взмахом, одним ударом: допрос Галагана на обойной бумаге, ночной сбор коммунистов города и – вся контрреволюция в чекистском мешке! Разве это не стоит жизни Галагана?
Пусть с листов допросов и сводок о прежних преступлениях Галагана просвечивают искаженные лица партизанских жен и детей, сжигаемых заживо, мертвые глаза повешенных, запоротых, расстрелянных…
Пусть даже за десятую долю совершенных преступлений Галаган трижды достоин смерти! И даже пусть Константинову вспоминается плац-пустырь Омского кадетского корпуса, где разместились тогда все контрразведки… И сам Константинов вспоминается самому Константинову.
…Руки скручены за спиной проволокой. Лицом уткнули в сарайные бревна, а сзади слышен тот же мерзкий голос, что и сейчас: самодовольный голос Галагана:
– Ну-с… Последний раз: где скрывается Оленич?
Свидетель Константинов молчит.
Выстрел гремит по плацу, отталкиваясь эхом от корпусных стен, а слева от константиновской щеки впивается в дерево пуля. Полтора сантиметра от виска..
И опять:
– Слуша-ай, ты, ба-льшевистская морда! Второй раз я не промажу.
И опять гремит наган. Пуля – в сантиметре.
Третий выстрел на плацу. Пуля отбила крохотную щепочку, щепочка – в надбровье глубокой занозой… До сих пор – след. белый шрамик. После товарищи по камере делали надрез – вытаскивали занозу…
– Ладно! Развяжите ему руки, господа! Ничего, краснокожий, я из тебя Оленича выбью!
…А теперь Константинов думает: если не удастся отстоять у товарищей жизнь Галагана, сам поеду на исполнение после коллегии… Обязательно – сам! Долг платежом красен… Но нет, не в этом суть: в том, чтобы отстоять жизнь этой гадины…
Константинову сравнялось тридцать семь. Был он человеком невысокого роста, с движениями плавными и медлительными, и ходил сутулясь и как-то странно на левый бок, будто навсегда впитав в себя команду: «Левое плечо, вперед!» У него было узкое, строгое лицо. Строгость константиновского лица портила свисавшая на лоб прядь волос, каштановых, но с преждевременной проседью, да пятна чахоточного румянца на скулах. Карие глаза Константинова умели смотреть на собеседника не мигая, так что трудно было человеку с нечистой совестью уйти от этих глаз, проникающих, казалось, в самые сокровенные тайники человеческой скверны… Даже сотрудники губчека, сами мастаки по части следовательского взора, говорили уполномоченному по политпартиям: «Ну, чего уставился? Скребешь своими шарами по душе, словно конским скребком!». Константинов отводил глаза и чуть усмехался.