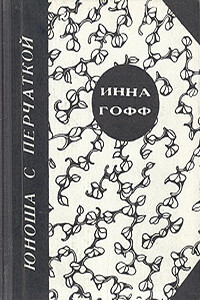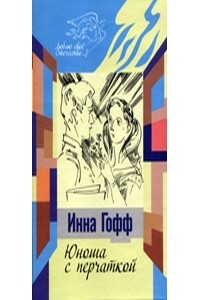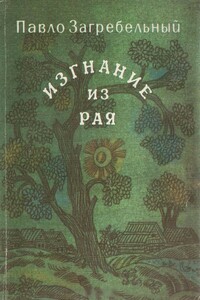Я знаю, что мое письмо опять-таки издерганное. Но это оттого, что я сегодня глупо счастлива. Я давно уже не пишу издерганных писем, я выучилась застегивать на все пуговицы свой нравственный вицмундир…»
Воображение подскажет нам, как усмехнулся Антон Павлович по поводу «нравственного вицмундира».
«Пять лет. Я бы очень хотела видеть Вас, рассказать Вам и многое снять с себя, что мне так ненавистно. И в особенности в мои годы, когда жизнь прошла (Л. А. Авиловой в 1904 году сорок лет. – И. Г.), сознавать себя все еще смешной и жалкой так тяжело! Точно позор. А я по совести не чувствую, что заслужила его.
Простите мне, Антон Павлович, мою непрошеную откровенность. Я хватаюсь за случай, но я не искала его.
Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам, что я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей.
И что я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло. И это было самое крупное горе моей жизни…
Мне не надо, чтобы Вы меня простили, я хочу чтобы Вы меня поняли.
Ваша Л. Авилова»
Что хочет снять с себя Лидия Алексеевна? «Точно позор», – говорит она. Но позор, не заслуженный ею. И в то же время «я… оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло».
Нам известен лишь один случай на ранней поре их знакомства. Она поверила сплетне о том, что Антон Павлович в день встречи с ней на юбилейном обеде «Петербургской газеты» «кутил со своей компанией в ресторане, был пьян» и говорил, что хочет увезти ее, добиться развода, жениться.
И что его друзья одобряли его и даже качали.
Она не вполне поверила, но все же тогда упрекнула его в письме.
Он сейчас же ответил:
«Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик. Что сей сон значит? Мое достоинство не позволяет мне оправдываться… сколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь сплетне? Так, что ли?
Убедительно прошу Вас… не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге… Успокойтесь, бога ради. Впрочем, бог с Вами. Защищаться от сплетни… бесполезно.
Думайте про меня, как хотите».
Это письмо Чехова к ней кончалось словами:
«…с удовольствием помышляю о своем решении никогда не бывать в Петербурге».
В опубликованных воспоминаниях Авилова рассказывает об этом недоразумении:
«…меня ужасно огорчало его решение никогда больше не приезжать в Петербург… каждый раз при этой мысли больно сжималось сердце».
Прошло двенадцать лет с той размолвки. Она длилась больше года, до того письма от 1 марта 1893 года, в котором он написал ей, что «уже не сердит». И там же:
«У нее (Надежды Алексеевны, сестры Авиловой. – И. Г.) я хотел встретиться и с Вами. Можете себе представить. Как это ни невероятно, но верно».
И сам же вспоминает, что нарушил свое обещание не бывать больше в Петербурге. «…Вы, конечно, умышленно пропустили еще одну мою вину…»
Большой и в то же время не слишком большой срок для случившегося, которое она называет самым крупным горем своей жизни. «Теперь пора это сказать», – заключает она.
Из того же второго письма (февраль 1904 года):
«Мне суждено всю жизнь порываться так или иначе и потом долго, иногда годами (выделено ею. – И. Г.) страдать от стыда, презирая себя до того, что и жалости к себе не чувствуешь. Одно чувствуешь: ничего поправить нельзя! Слова – пустой звук. Словами же самое чистое, святое, дорогое чувство облекается в какую-то пошлую захватанную форму и передается людям.
Я всегда была очень неловка. Может быть, и теперь…»
Что побудило ее коснуться этого?
Произошла ли какая-то новая неловкость с ее стороны, случайная и непредвиденная? – «я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло».
Некоторое подтверждение этой версии дает ее письмо Чехову, посланное вслед:
«А я умею изредка устраивать такие штучки. В прошлом году у меня был Алекс[ей Максимович] Горький, сидел вечер, пили чай, а на другой день в П[етербургской] газете появилась целая статья о том, что он говорил, что и как пил и ел. С тех пор я его не видела. Он, долж[но быть], думает, что я получила за статью несколько рублей. А я готова была кусаться или повеситься от стыда. Это мне Коля Худеков удружил. Он вообще ко мне не расположен, а тут еще очень рассердился, что не позвала его