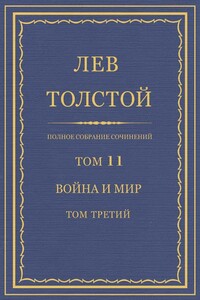Они раздавались потом, почти не переставая, то тише, то громче, разнообразные, разноголосые, но далёкие и глухие, точно это кричали сами стены. Дети знали, что там была женщина, у которой каждый день скоблили железом кость и которая всегда страшно кричала и лишалась чувств, и мужчина, который ревел, как бык, потому что доктор размахивался и прокалывал ему ножом живот. Страх нарастал, наполнял всю комнату, поднимался до потолка и опускался оттуда, как душный свод.
Но это было не всё.
Самое страшное было впереди.
Стёпка, который давно уже стоял у дверей на часах, вытаращив глаза, стремглав ковылял к постели и вытягивался во фронт. Все поспешно шевелились и потом затихали — наставала мёртвая тишина.
В коридоре слышался топот многих шагов, настежь распахивалась дверь, и в палату входил профессор.
Он входил, медленно переваливаясь, и с трудом переставляя ноги, точно на них были одеты чугунные сапоги. У него был горбатый нос и страшные, красные, волосатые руки, которые равнодушно висели вниз, — и Лизе казалось, что в палату двигается камень, который может спокойно всех раздавить.
Он обходил одну за другой все постели, и за ним шли все доктора, все сестры и целая куча незнакомых людей.
Он равнодушно слушал, когда румяный доктор почтительно говорил, иногда кивал головой, медленно поднимал одеяло и своей страшной рукой больно ощупывал тело. Потом, переваливаясь, волоча ноги и болтая руками, со всей своей свитой уходил — и дети, не шевелясь, лежали и дрожали ещё полчаса, потому что каждый боялся, что сейчас придут, положат его на носилки и понесут.
Один Карл не боялся ничего.
Молчаливо и сурово он сидел, прислонив к сетке свой горб, и неподвижно смотрел прямо перед собой.
— Знаешь, Анна, — шептала иногда Лиза, нагибаясь к ней, — а всё-таки Карл храбрее всех. Мы все боимся, а он не боится ничего.
— Это оттого, — равнодушно отвечала Анна, — что он знает, что скоро умрёт.
И, нагнувшись друг к другу, они начинали шептаться о том, что у Карла в горбу сидит гной, который должен его задушить.
Это сказала им однажды сиделка Катя, и Лизе казалось с тех пор, что Карл тоже это знает и оттого всё время молчит.
Вечером было лучше.
Страх исчезал, оставалась тайна. Тайна огромного дома, населённого страшными больными, со страшной операционной и страшными докторами, которые лечили больных.
Лиза, Анна и Стёпка собирались одной компанией, вместе. Стёпка усаживался на постель к Лизе, вытягивал перед собой залитую в гипс ногу, к ним наклонялась с своей постели Анна, и втроём они начинали говорить.
Постепенно опускались сумерки, палата раздвигалась и делалась большой.
Сестра Анна и сиделка Катя куда-то уходили и не являлись, пока не делалось совсем темно, и дети с увлечением говорили.
Сначала обо всём, потом о бледной Соне, которую все уважали, потому что месяц тому назад профессор разрезал ей живот, потом о Шуре, о Карле, и, наконец, о том, что их интересовало больше всего — об операционной…
— Там страшно, — говорила Лиза, пожимаясь, делая губами: «брррр…» — и начинала тихо стучать ногой о постель.
Стёпка вытаращивал глаза и уверял, что, когда он был там, он видел машину, которая рубит сразу пять ног. Она стоит в углу, под ней разводят огонь, и она начинает шипеть.
— Ты глуп, Стёпка! — коротко решила Лиза, которая не верила ничему, что он рассказывал.
Стёпка вообще видел то, чего не видел никто. Больница казалась ему огромной, как город. В ней было сто лестниц и тысяча дверей. Он сам считал.
В конце коридора, куда он иногда ковылял, он видел шкаф, и там стоял живой человек с собачьей головой, которая скалила зубы, а в одной палате, направо, в другом конце, лежал больной, которому профессор вырезал глаз.
Этот глаз лежит теперь в банке в другом шкафу и мигает, когда кто-нибудь проходит мимо, как живой.
А самые страшные вещи были на дворе.
Там стояла мертвецкая, а в ней всегда было двести мертвецов.
В полночь они подымались и начинали плясать, а потом искали профессора, чтобы его задушить, но не находили, и от злости выли и дрались между собой.
— Ты глуп, Стёпка! — говорила изумлённая Лиза.