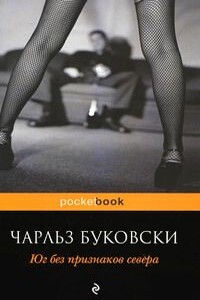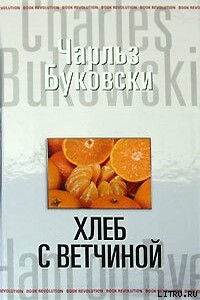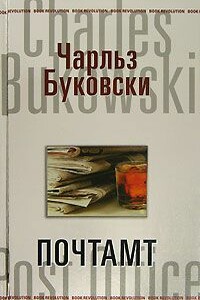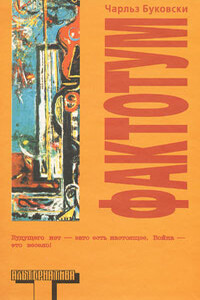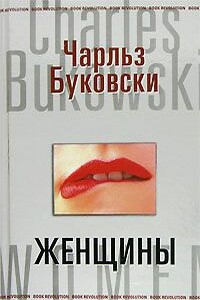Когда судья спросил адвоката Хайанса, в чем смысл фотографии женского полового органа, адвокат Хайанса ответил:
— Ну, вот такая вот она. Такая она обычно и бывает, папаша.
Они проиграли дело, разумеется, и подали апелляцию на новое слушание.
— Это наезд, — объяснял Джо Хайанс нескольким разрозненным репортерам, столпившимся вокруг. — Простой полицейский наезд.
Светоч интеллекта — Джо Хайанс…
Дальше Джо Хайанса я услышал по телефону:
— Буковски, я только что купил пистолет. Сто двадцать долларов. Прекрасное оружие. Я собираюсь кое–кого убить!
— Где ты сейчас находишься?
— В баре, возле газеты.
— Сейчас буду.
Когда я туда доехал, он расхаживал взад–вперед возле бара.
— Пошли, — сказал он. — Я куплю тебе пива.
Мы сели. Народу — навалом. Хайанс говорил очень громко. Слышно его было аж до самой Санта — Моники.
— Да я ему все мозги по стенке размажу — я этого сукина сына порешу!
— Какого сукина сына, парнишка? Зачем ты хочешь его убить, парнишка?
Он смотрел прямо перед собой, не мигая.
— Ништяк, детка. За что ты кончишь этого сукина сына, а?
— Он с моей женой ебется, вот зачем!
— О.
Он еще немного полыбился перед собой. Как в кино. Только не так клево, как в кино.
— Прекрасное оружие, — сказал Джо. — Вставляешь вот эту маленькую обойму. Десять патронов. Можно очередью. От ублюдка мокрого места не останется!
Джо Хайанс.
Этот чудесный человек с большущей рыжей бородой.
Ништяк, крошка.
Как бы там ни было, я у него спросил:
— А как же все эти антивоенные статьи, что ты печатал? Как же любовь? Что произошло?
— Ох, да хватит же, Буковски, ты же сам никогда в это пацифистское говно не верил?
— Ну, я не знаю… Не совсем, наверное.
— Я предупредил этого парня, что убью его, если он не отвянет, а тут захожу, а он сидит на кушетке в моем собственном доме. Вот ты бы что сделал?
— Ты же это все превращаешь в личную собственность, разве не понятно? На хуй. Забудь. Уйди. Оставь их вместе.
— Ты что, так и поступал?
— После тридцати — всегда. А после сорока уже легче. Но когда мне было двадцать, я сходил с ума. Первые ожоги болят сильнее всего.
— Ну а я прикончу сукиного сына! Я вышибу ему все его проклятые мозги!
Нас слушал весь бар. Любовь, кроха, любовь.
Я сказал ему:
— Пошли отсюда.
За дверями Хайанс рухнул на колени и испустил четырехминутный истошный вопль, от которого молоко сворачивалось. Слыхать было до Детройта. Потом я его поднял и повел к своей машине. Дойдя до дверцы со своей стороны, Джо схватился за ручку, снова упал на колени и еще раз взвыл сиреной до Детройта. Залип на Черри, бедняга. Я поднял его, усадил в машину, влез с другой стороны, отвез на север до Сансета, затем на восток по Сансету, и возле светофора, на красный свет, в аккурат на углу Сансета и Вермонта он выпустил третий. Я зажег сигару. Остальные водители смотрели, как вопит рыжая борода.
Я подумал: он не остановится. Придется его вырубить.
Но когда свет сменился на зеленый, он перестал, и я двинул оттуда. Он сидел и всхлипывал. Я не знал, что сказать. Сказать было нечего.
Я подумал: отвезу его к Монго, Гиганту Вечного Торча. Из Монго говно через край хлещет. Может, и на Хайанса капнет. Что до меня, то с женщиной я не жил уже года четыре. Уже слишком далеко отъехал, чтоб разглядеть, как оно бывает.
Заорет в следующий раз, подумал я, и я его вырублю. Еще одного вопля я не вынесу.
— Эй! Мы куда едем?
— К Монго.
— О, нет! Только не к Монго! Терпеть его не могу! Он будет надо мной смеяться! Жестокий он сукин сын!
Его правда. У Монго — хорошие мозги, только жестокие. До добра не доведет. Справиться с ним я не смогу. Мы ехали дальше.
— Слушай, — сказал Хайанс. — У меня тут подружка недалеко. Пара кварталов на север. Высади меня. Она меня понимает.
Я свернул на север.
— Послушай, — сказал я. — Не убивай этого парня.
— Почему это?
— Потому что ты — единственный, кто будет печатать мою колонку.
Я довез его до места, высадил, подождал, пока откроется дверь, и только после этого уехал. Хороший кусочек жопки его умиротворит. Мне тоже бы не помешало…
Потом я услышал Хайанса, когда он съехал из дома.
— Я больше не мог. Посуди сам: как–то вечером залез я в душ, собираюсь выебать ее, мне хотелось хоть какую–то жизнь в ее кости впердолить, и знаешь что?