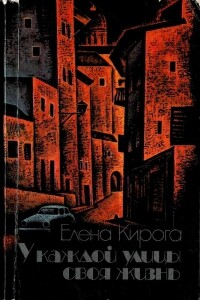Не похоже, чтобы она оцепенела, как было бы при внезапном пробуждении, ибо когда Клавдия резко сдернула одеяло, она только наблюдала за этим движением со все тем же выражением насмешливой — и теперь, мне кажется, забавно заинтересованной — жадности, но безо всякого удивления. В любом случае, этот жест ее не смутил; она тоже лукаво созерцала свое ночное тело, это опрокинутое в ночь тело. Руки ее были спокойно вытянуты, приняв тысячелетнюю позу отдохновения (но кулаки судорожно сжаты). Вот что сделала тогда Клавдия: она коснулась, чтобы ее поднять (или передвинуть), ее руки и, поскольку та не поддалась, попыталась разжать ее пальцы. Далее все произошло молниеносно: Юдифь с потрясающей быстротой села, выкрикнула два слова — и рухнула обратно на постель.
Жуткая сцена, но у меня она оставила впечатление радости, беспредельного удовольствия. Этот дивный рассудок воспламенился, что может быть истиннее, и в не меньшей степени относилось к воспламененности и то, что затем она оказалась отброшена и так низко пала, это мгновение, когда речь шла уже не о поклонении величию обломка, но о том, чтобы схватить и уничтожить, служило тому наглядным подтверждением.
Полагаю, жизненная сила этой сцены потрясала тем сильнее, что держалась она буквально на двух или трех жестах. Разыгравшееся было надписано на бесконечно тонкой пленке, но позади нее рокотала свобода чистого каприза, в котором еще не проснулся вкус к крови. О такой сцене никто никогда не сможет сказать, что она уже имела место; когда-то она случилась в первый и единственный раз, и преизбыток ее живости был мощью истока, из которого ничто не проистекает. Даже когда я возвращался к ней, чтобы ее обдумать, — а она того, то есть напряженного раздумья, требовала, — она никуда меня не вела; мы так и оставались лицом друг к другу, не на расстоянии, но в интимной близости таинственного панибратства, ибо она была для меня ты, а я был для нее я.
Что я мог бы об этом сказать? Она ни на миг не становилась незабываемой, она не желала освящения, даже с ужасающей ее стороны в ней присутствовало сам не знаю что необыкновенно веселое. Без сомненья, воскресить это было невозможно: сам момент падения, страшное, неспособное себя сдержать извращение жизни нанесло удар памяти — а потом? потом хаос, и, однако, я не устану утверждать: последнее мгновение бесконечно превосходило все остальные, ведь именно на мне разложилось это призрачное, пригрезившееся тело, я держал его в своих руках, я испытал его силу, силу грезы, безнадежную податливость, побежденную и все еще упорствующую, такую, сообщить какую мне могло только существо с жадными глазами.
Вот что еще я хочу сказать: когда человек пережил нечто незабываемое, он замыкается с ним, чтобы о нем скорбеть, или же пускается в скитания, дабы его вновь отыскать; так или иначе, он становится призраком события. Но эта фигура не заботилась о воспоминании, она была неподвижна, но непостоянна. Имела ли она единожды место? В первый раз и, однако, не впервые. Со временем у нее были самые странные отношения, и это тоже воодушевляло: она не принадлежала прошлому, сразу и фигура, и обещание этой фигуры. В некотором роде она рассмотрела и схватила себя в одно мгновение, вследствие чего и произошло то ужасное соприкосновение, эта сумасшедшая катастрофа, которую вполне можно было рассматривать как ее падение во времени, но падение это к тому же пересекало время насквозь, вскрывая в нем безбрежную пустоту, и эта выемка представала ликующим праздником грядущего: грядущего, которое никогда уже не будет в новинку, так же как прошлое отказалось иметь единожды место.
Клавдия вернулась чуть позже меня. Мог бы добавить, что вернулись и эти слова, которые когда-то положили в моих глазах начало жизни Клавдии и сделали из нее того, кто приходит позже, вернулись и подтолкнули меня ко все той же истине: я ее не знал. Тем самым весь круговорот начинался сначала. Но и погруженному в напряженное раздумье, мне было отчетливо видно, как она приближается, медленно, со всем своим глубоким, меланхолически окрашенным достоинством приходит из пучины возвращения, мне было видно, как она проходит передо мной и, сколь бы близко ни была, на краткое мгновение вперяется в меня из-за всех рубежей, — все это обладало мрачной мощью моего “Я ее не знал”, но все это означало также и вдохновение самого возврата, его характер величественного события, вознесенного к своей собственной славе в свете дня, провозглашавшем не отсутствующую и неподвижную истину, а колыхание последнего значения. Да, она вернулась чуть позже, и я ее не знал. Но освещали все уже не эти слабые слова, поскольку они были изглажены, сметены жутким дуновением двух выкрикнутых Юдифью со дна своей памяти слов, Nescio vos, “Не знаю, кто вы”, которые она бросила нам в лицо, перед тем как рухнуть в мои объятия.