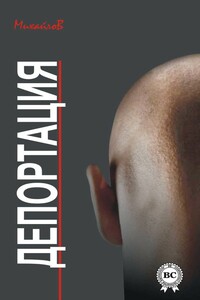И тем не менее, в следующее же мгновение, останавливаясь и оглядываясь: “Но это присутствие”.
Идя к присутствию, идти к которому они не могут. Отнесенные им, однако, к тому, что приходит, и тем самым к нему повернувшие. Все более и более отклоняясь по этой петле.
“Почему ты хочешь пробудиться от того присутствия, о котором мне говоришь?” — “Может быть, для того, чтобы в этом пробуждении заснуть. Не знаю, впрочем, хочу ли я этого, да и вы тоже, вы, может статься, этого не хотите”. — “Да и как мне этого захотеть? Там, где я, нет ничего, чего бы мне хотелось. Я жду, такова моя роль внутри ожидания, направляясь в сторону ожидания”. — “Ожидание, ожидание, какое странное слово”.
“Где они ждут? Здесь или не здесь?” — “Здесь — оно и удерживает их не здесь”. — “В том месте, где — или в том, о котором — они говорят?” — “В этом сила поддерживаемого во всей своей истинности ожидания — препроводить, где бы ты ни ждал, на место ожидания”. — “По секрету, секрета не делая?” — “По секрету ото всех”.
“И смерть пришла быстро?” — “Очень быстро. Но умирать так долго”.
Разговаривая, вместо того чтобы умирать.
Бессмертные в миг умирания, поскольку более близкие к смерти, чем смертные: присутствующие при смерти.
“Они не могут умереть за отсутствием будущего”. — “Хорошо, но в не меньшей степени и присутствовать”. — “Они не присутствуют, все, что от них имеется, — присутствие, в котором они медленно, вечно исчезают”. — “Присутствие без кого бы то ни было, быть может”. — “Присутствие, в котором они изглаживаются, присутствие изглаживания”. — “Забывая, забытые”. — “Забвение не властно над присутствием”. — “Которое не принадлежит воспоминанию”.
# Что заставляло его поверить, будто бы он утратил идею умирания? Да, что заставляет его в это верить? Ощущение, что он ее ищет? Он ее ищет! В этом случае, даже если он ее и найдет, он найдет всего-навсего идею. Идею, правда, особого рода.
Как будто он вдруг стал не знать больше, чем способен не знать. Ему нужно разыскивать центр тяжести этого неведения, причем не в кое-как приспособленных словах “смерть” и “жизнь”, а там, где он и пребывает: в ожидании между “видеть” и “говорить”.
Видеть, забывать говорить; разговаривать, исчерпать в глубинах речи неисчерпаемое забвение.
Эта пустота между “видеть” и “говорить”, в которой они незаконно сближаются друг с другом.
Когда он спрашивает себя, откуда пришел к нему этот дар неведения, который не приносит ему, если только от него не уклоняться, ни головокружения или смятения, ни чувства силы или бессилия, а лишь преисполненное покоя ожидание, приходится отвечать: от постигшего его изумления, начиная с таинственно развернувшейся простоты, игры между тем присутствием, явленность которого видится, даже когда и не зрима, и тем, что дает повод речи. Это разделение, каковое вовсе и не разделение — все же некий разрыв, но его не удается заметить, а на самом деле он и не изобличен, поскольку, как предполагается, вводит зазор между зримым-незримым и сказуемым-несказуемым. Там, где в соответствии с общим законом совершенный шов скрывает секрет стыка, тут-то на манер некого разрыва и выказывает себя, скрыто появляясь, секрет. Оба они, каждый на своем пути, свидетели этой пустоты. Это, полагает он, место неведения и внимания. Здесь, но она этого не говорит, самая сердцевина присутствия, та сердцевина, которой она, может, и хотела бы, чтобы он нанес насильным даром урон.
Будто вдруг не зная больше, чем он может не знать…
У него отчетливое предчувствие, что в это неведение оказалась вовлечена и идея умирания, и, когда из-за какого-то соскальзывания слов она, болезненно схватившись с тем, чего не знает, наводит его на мысль, что как бы лишена конца и если должна умереть, то обязательно своей смертью для него, мысль эта, как ему кажется, принадлежит разыгрывающейся между речью и присутствием игре неведения.
Он так и говорит, речь не изменяет неведению.
# В какое-то мгновение он весело сказал ей: “О, вы таинственны”. На что она не без резкости ответила: “С чего бы это мне быть таинственной, когда я, напротив, слегка удалилась от всякой тайны?”