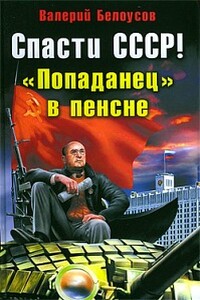«Ну, ну что там, в Артуре?! Есть ли новости»
Злобно швырнув на свободный стул свою шубу, занесенную снегом, он подошел к столику, и тяжело опустился на диван…
«Сдaли!…»
«Что сдали? Кого сдали?»
«Не „что“ и не „кого“, а сами сдали!… Понимаете?Сами сдали!» – промолвил он, отчеканивая каждый слог.
«Нам, в 900-том, тоже приходилось туго. Я это помню
Тоже тогда – врасплох. Где мы не сдавали – там выкручивались. Сдали – значит сразу признали себя побежденными…
И будем побиты! И поделом! – вдруг выкликнул он. – Казнись! К расчету стройся! „Цесаревич“, „Ретвизан“, „Паллада“ – подбиты минной атакой; „Аскольд“, „Новик“ – здорово потерпели в артиллерийском бою; „Варяг“, „Кореец“ – говорят уничтожены в Чемульпо; транспорты с боевыми припасами захвачены в море; „Енисей“, „Боярин“ – подорваны собственными средствами, a „Рюрик“, „Громобой“, „Россия“, „Богатырь“ – здесь, во Владивостоке, за 1000 миль!…
Крепость в Артуре готовят к бою после начала войны! Стреляли только три батареи: форты были по зимнему; гарнизон жил в казармах, в городе; компрессоры орудий Электрического утеса наполняли жидкостью в 10 часов утра, когда разведчики уже сигналили о приближении неприятельской эскадры!… He посмеют! Вот вам!… Посмели!»
Он отрывисто бросал свои недоговоренные фразы, полные желчи, пересыпанные крупной бранью. Это был крик бессильного гнева…
Бывшие в буфете случайные офицеры армии и флота, слушали его, жадно ловя каждое слово, не обращая внимания на брань.
Все сознавали, что она посылается куда-то и кому-то через их головы, и, если-6ы не чувство дисциплины, взращенное долгой службой, все присутствующие всей душой присоединились бы к этому протесту сильного, энергичного человека, выкрикивавшего свои обвинения…
Ho, странно, по мере того, как со слов путейца ярче и ярче развертывалась перед нами картина русской беспомощности – какое-то удивительное спокойствие сменяло мучительную тревогу долгих часов неизвестности и томительного ожидания…
Семёнов случайно взглянул на соседский столик – увидав седого полковника. Он сидел, весь вытянувшись, откинувшись на спинку стула, засунув руки в карманы тужурки, и, казалось, что… если бы кто-нибудь, в этот момент, хоть что-нибудь ещё сказал бы плохое о России, то это могло 6ы кончиться очень дурно…
«Измена!… Я верю, я не смею не верить, что невольная, но все же измена…» – закончил путеец, тяжело переводя дух.
«Пусть так! Что было – то было… Не переделаешь!» – очень тихо и ясно сказал в наступившем молчании полковник. – «Но все это – только начало. 3а нами – Россия. А пока… мы, ее авангард, мы, маленькие люди, мы – будем просто делать свое дело!»
И в голосе этого человека, на вид такого больного и слабого, Владимиру вдруг послышалась та же звенящая нота, которая звучала в голосе молодого подпоручика, на вопрос -«Что же делать будем?», крикнувшего: «Умирать будем!»
И он снова поверил, что мы им – ещё покажем!
… Шуркин, торопливо поздоровавшись с кем-то из офицеров, наклонился к уху Семёнова и азартно защептал:«Владимир Иванович, не показывая виду, что спешите… за мной, самым быстрым аллюром…»
«Что случилось, Павел Васильевич?»
«Не иначе, в цвет попал…»
Буфет для пассажиров третьего класса – который посещали и станционные рабочие – размещался в полуподвале…
Керосиновые лампы тускло светят в облаках табачного дыма и кухонного чада.
Ha полу, покрытом грязью и талым снегом, занесенным с улицы, целые лужи пролитого вина и пива… валяются разбитые бутылки и стаканы, какие то объедки…
Обрывки нескладных песен, пьяная похвальба, выкрикивания отдельных фраз с претензией на высоту и полноту чувств, поцелуи, ругань…
Общество тут было самое разнообразное – мелкие собственники-мещане, «ремеслуха», приказчики, извощики (именно так!)… – рубахи – косоворотки и воротнички «монополь», армяки, картузы, пальто с барашковым воротником, шляпы и даже шапки из дешевого китайского соболя, окладистые бороды и гладко «под англичанина» выбритые лица… народ, короче…
В углу, рядом со стойкой, на которой стоит огромный красной меди красавец самовар (и за которой блестит краснощёкое лицо содержателя, так – что кажется, за стойкой ещё один такой же самоварчик, поменьше), за замызганным столиком – вполпьяна пролетарий, по виду – паровозник, потому как чёрен от копоти и угольной пыли… («Мой папаша – паровозный машинист, придёт со службы, и моется мылом зелёным, коричневым, розовым – а пена всё равно одного цвета! -Верно, белая? – Нет, чёрная!» Лидия Чарская)