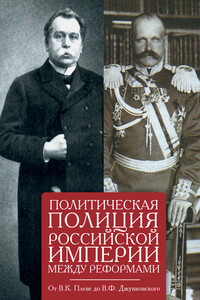Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 27 августа 1964 г. приговор в отношении названных лиц отменён, и дело прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления. Стоит сказать, что в трагической судьбе Думенко и других неблаговидную роль сыграл председатель Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкий. Но все же подобное было исключением из правила, а не правилом.
Любопытно посмотреть, чем обычно руководствовался Реввоентрибунал Республики, рассматривая поступавшие к нему дела. Этот высший военный суд предъявлял жесткие требования к качеству предварительного следствия, обязывая военных следователей «с полным беспристрастием приводить в известность как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его оправдывающие». То есть па деле осуществлялся один из демократических принципов уголовного процесса — установление объективной (материальной) истины[14].
Позже Прокурор СССР А.Я. Вышинский, вульгарно истолковав положение диалектического материализма о невозможности достижения абсолютной истины, провозгласил достаточным для принятия решения по конкретному делу установления истины относительной, а решающим доказательством вины — признание обвиняемого. На практике это повлекло собой грубейшие нарушения законности, когда любыми способами, в том числе применением мер физического воздействия (попросту — избиения), добивались признания в совершении несуществовавших преступлений. Об этом убедительно свидетельствуют данные судебного разбирательства дела Рапавы, Рухадзе и других, Багирова и других.
А в первые годы существования военных трибуналов вмешательство командиров и политработников в деятельность военных судей рассматривалось как превышение власти, за что виновные в таком вмешательстве подлежали ответственности[15]. В жизнь настойчиво проводилась линия независимости судей от мнения командования и реввоенсоветов при разрешении конкретных дел. Как указывалось в одном из циркуляров Реввоентрибунала Республики, судьи при рассмотрении поступавших к ним дел «должны оставаться только судьями, беспристрастно оценивающими обстоятельства дела».
Можно сослаться на такой факт. 15 августа 1919 г. Реввоентрибунал в распорядительном заседании рассмотрел ходатайство, поддержанное председателем РВС Республики Л.Д. Троцким, о смягчении наказания ответственным должностным лицам штаба Южного фронта, которые были осуждены за преступления по должности, незаконное использование служебных автомобилей и пьянство. Но это ходатайство было оставлено без удовлетворения.
Своё решение высший военный суд обосновал тем, что осуждённые занимали высокое служебное положение, что обязывало их «к особой щепетильности в своём поведении, долженствующим служить примером для других сотрудников штаба[16].
Уже тогда обвиняемому обеспечивалась возможность защищать себя как на предварительном следствии, так и в судебном заседании. Обвиняемый вправе был не отвечать на предлагаемые ему вопросы. Запрещалось домогаться сознания обвиняемого «ни обещаниями, ни ухищрениями, ни угрозами»[17].
Кстати, надзор за предварительным следствием осуществлялся председателями трибуналов, которым участвовавшие в деле лица могли приносить жалобы на следственные действия, нарушающие или стесняющие их права.
А если посмотреть на практику назначения Реввоентрибуналом Республики наказаний, то она и сегодня не может не вызвать удивления. Так, в нелёгком для Советской Республики 1920 г. Реввоентрибуналом были рассмотрены дела в отношении 290 человек, из которых 108 человек, или 37,2% оправданы, в отношении 38 человек (13,1%) применено условное осуждение, 105 человек (36,2%) приговорены к лишению свободы, 30 человек (10%) — к расстрелу и 9 человек (3,1%) — к другим видам наказания[18].
Как видим, оправдательный приговор для высшего военного суда того времени — явление вполне обычное, чего не скажешь о Военной коллегии Верховного Суда СССР второй половины 1930-х — начала 1950-х гг.
Как известно, в 1930-е гг., приговоры в отношении арестованных органами НКВД фактически выносились ещё до того, как дела рассматривались судами. В НКВД составлялись списки,, включавшие многие тысячи арестованных, в отношении которых велось следствие, и высказывалось предложение, кого следует осудить но первой, а кого по второй категории, то есть соответственно расстрелять или лишить свободы. Эти списки направлялись Сталину, который вместе с Молотовым и Кагановичем рассматривал их, после чего ставилась виза «За» с их подписями. Это означало, что лица, числившиеся по первой категории, будут расстреляны. Исключения были, но исчислялись единицами. А чтобы судьи не ошиблись, на обвинительных заключениях перед направлением дел в суды ставились римские цифры «I» и «II», обозначавшие категорию обвиняемых.