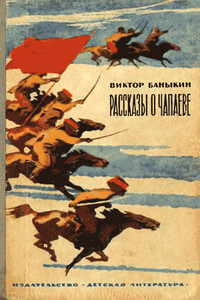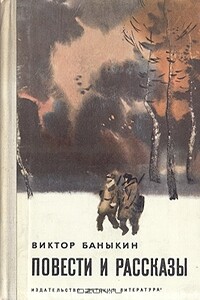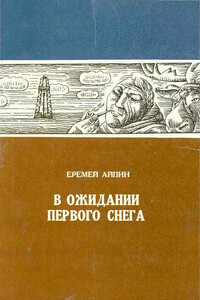«Ну, и ворона-пустозвонка! О ком это она раскаркалась так речисто?» — спросил себя Гордей, оказавшись невольным свидетелем телефонного разговора жены. Он все еще не знал, что ему делать: снимать ли пальто, или уйти так же тихо и незаметно, как вошел в квартиру? Встреча с мадам его не радовала.
Последняя фраза Галины Митрофановны — она чуть не рыдала, — ошеломила художника:
— Умоляю вас — пожалейте меня несчастную… Я так была предана Гордею!
«Оказывается, она обо мне печется. Меня… хоронит!» — едва не вскричал возмущенно Гордей.
Не помнил он, как покинул квартиру, как, забыв вызвать лифт, утомительно долго спускался вниз с шестого этажа, то и дело спотыкаясь на ступеньках. Даже выйдя из подъезда на улицу, ветрено-дождливую, с отражающимися расплывчато в мокром асфальте фонарями, первые минуты не помнил, куда бредет. Лишь, на углу, у аптеки, заметил, что ему надо в противоположную сторону, и повернул назад.
На площади перед входом в метро чернела суетливая толпа, раздавались милицейские свистки.
— Граждане, пропустите «скорую»! — кричал баском молодой старшина. — Расходитесь, граждане!
Укатила белая машина «скорой помощи», разбрызгивая лужи.
— Что-то произошло? — Спросил Гордей кургузую школьницу с портфелем, вприпрыжку бежавшую от редеющей толпы.
— Пьяницу машина задавила! — весело и беззаботно прокричала девчонка, таща за руку подружку. — Помчались домой, Милка, все интересное кончилось!
— И ни чуть не так! — возразила вторая девчонка. — Не он был пьяный, а шофер!
— Кого же задавили? — снова спросил художник, обычно не проявлявший любопытства к уличным происшествиям.
— Старика одного… лет тридцати! — досадливо выпалила кургузая. — Вот привязался!
Гордей посмотрел на убегающих резво девчонок. Может быть, он ослышался? Нет, не ослышался. Кургузая так и сказала: «Старика лет тридцати задавила машина!»
Усмехаясь горько, художник подумал: «А я для этих шустрых синиц, видимо, уже дед? Или даже прадед?.. Не зря, оказывается, мадам собирается меня хоронить».
Минуя гостеприимно распахнутые двери метро, он свернул за угол и вошел в кафе — стеклянный куб, сверху до низу запотевший от сырости.
Точь-в-точь такое вот заурядное кафе с голубоватенькими непромытыми столами на алюминиевых ножках-раскоряках изобразил один преуспевающий живописец.
В кафе было холодно, накурено, пусто. Лишь вблизи стойки сидели три подвыпивших лохмача.
«А не лучше ли отправиться в дежурный гастроном? Купить пару бутылок кефира, чайный сырок, и — в мастерскую?» — спросил себя Гордей, в растерянности озираясь вокруг.
Но его уже заметила молодая дородная буфетчица.
— Смелей, смелей подходите сюда! — закричала она властно баритоном. — Я девушка ручная, некусачая!
Безусые парни загоготали, а художник, пламенея лицом, послушно поплелся к стойке.
Весь еще охваченный смятением, обволакивающим его как туманом, он машинально кивал, когда буфетчица бойко выкрикивала; «Коньяку сто пятьдесят?», «Сосисек порцию?», «Кофе пару стаканов?..» Щелкали и щелкали оглушительно, точно стальные, костяшки на невидимых из-за стойки счетах.
И вот Гордей уже сидел одиноко за вымазанным горчицей столиком, а перед ним дымились пухлые свиные сосиски с горкой перепревшей квашеной капусты, два стакана с остывшим кофе и коньяк, налитый тоже в граненый стакан — липкий и кособокий.
Поднося ко рту пахнущий самогоном стакан, художник с тоской спросил себя: «За что же я пью? За помин своей души? Или… за новую жизнь?»
Мерзкую обжигающую жижу он выпил сразу, словно заправский алкоголик, хотя до этого года два в рот не брал спиртного. И потянулся за ломтиком хлеба. И, как неисправимый пьянчуга, жадно его понюхал…
Выйдя из кафе, Гордей не спустился в метро, а направился к себе в мастерскую пешком. Не близок путь от Смоленской площади до Красных ворот, и его это не пугало. На родине, бывало, Гордею ничего не стоило отмахать по лесам и перелескам пятнадцать — двадцать километров!
Не крапало. Лишь резкий сырой ветер сдирал безжалостно с тротуара прилипшие к асфальту листья, вознося их к непроглядно-мглистому небу.
Садовое кольцо, обычно шумное в любой час суток, забитое до отказа вечно спешащими куда-то машинами, сейчас было неестественно пустынным. Редко встречались и пешеходы.