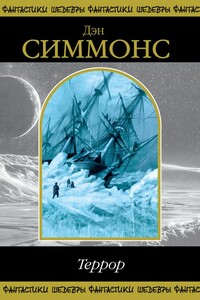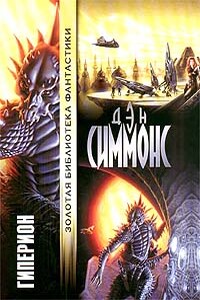* * *
Джеймс был очень недоволен, когда узнал, что на «Париже» им с Холмсом предстоит жить в одной каюте, пусть и первого класса. Холмс объяснил, что других не было, – он брал билеты перед самым отплытием, и даже эта двухместная каюта оказалась свободна лишь потому, что кто-то в последний момент раздумал плыть.
– Если только вы не хотите путешествовать четвертым классом, на палубных местах, – добавил он, – что, по моему прошлому опыту, не лишено своеобразной прелести.
– Я вообще не хочу путешествовать на этом корабле, да и ни на каком другом, – буркнул Джеймс.
Впрочем, в дороге они почти все время проводили порознь. Холмс никогда не выходил к первому завтраку, лишь изредка съедал очень неплохой petit déjeuner[4] в утренней столовой, всегда пропускал ленч и буквально считаные разы являлся на свое место за капитанским столом, где вечерами, в смокинге, Джеймс пытался беседовать с французскими аристократами, немецкими промышленниками, седобородым капитаном (который интересовался исключительно едой) и единственной англичанкой, выжившей из ума старухой, которая упорно называла его «мистер Джейн».
Дни он проводил, роясь в скудной корабельной библиотеке (там не было ни одной его книги, даже в переводе), прогуливаясь по не слишком просторной палубе или слушая убогие концерты, устраиваемые для развлечения пассажиров.
И все же дважды он заставал Шерлока Холмса в чрезвычайно личные и неловкие моменты.
Первый раз это случилось, когда Джеймс после завтрака зашел в каюту переменить платье. Холмс лежал на койке, по-прежнему в ночной рубашке. Его левый бицепс был туго перетянут резиновым жгутом, и сыщик-консультант вынимал иголку шприца из сгиба локтя. На прикроватном столике – их общем столике, куда Джеймс клал книгу, когда приходило время тушить свет, – стоял пузырек с темной жидкостью, по всей очевидности морфином.
Генри Джеймс и раньше знал, как вводят и как действует морфин. За месяцы до смерти Алисы он наблюдал, как она уплывает в золотистое сияние наркотического полусна, прочь от всего человеческого (в том числе в себе). Катарина Лоринг даже получила от Алисиного врача указания, как ввести морфин, если рядом не будет человека более опытного. Джеймсу ни разу не пришлось делать сестре инъекцию, но он мысленно к этому готовился. Алиса в последние месяцы прошлого года получала, помимо морфия, регулярные сеансы гипноза с целью облегчить непрекращающиеся боли.
Однако Холмс, насколько Джеймс знал, не испытывал физических болей. Он просто был морфинистом, а до того, на протяжении многих лет, кокаинистом и не скрывал, что намерен разыскать в Америке новый «героический» препарат господина Байера, легкодоступный в Соединенных Штатах.
Холмс ничуть не смутился – просто глянул из-под тяжелых век, спокойно убрал шприц, пузырек и все остальное в сафьяновый несессер (который Джеймс видел раньше, но полагал, что там хранится бритвенный прибор) и сонно улыбнулся.
С нескрываемым омерзением Джеймс повернулся на каблуках и вышел из каюты, так и не переодевшись для прогулки по палубе.
* * *
Второй мучительно личный эпизод случился на четвертый вечер после отплытия из Дублина, когда Джеймс, предварительно постучав, открыл дверь каюты и застал Холмса голым перед тумбочкой с умывальным тазом и зеркальцем. И вновь Холмс не выказал должного смущения, не бросился натягивать ночную рубашку, несмотря на явное недовольство соседа по каюте.
Генри Джеймс и раньше видел голых мужчин. Обнаженное мужское тело вызывало у него сложные чувства, но главным образом заставляло вспомнить о смерти.
Как только Генри Джеймс выучился ходить, он начал повсюду следовать за братом Уильямом (на год его старше). Генри не мог (и не хотел) участвовать в грубых уличных забавах старшего брата, но позже, когда Уильям вознамерился стать художником, решил тоже выбрать эту стезю. При всякой возможности он вместе с Уильямом ходил на уроки живописи и рисунка, которые оплачивал их отец.
Как-то Джеймс вошел в ньюпортскую рисовальную студию и увидел, что их двоюродный брат Гас Баркер позирует обнаженным перед классом. Джеймс был до глубины души поражен красотой рыжеволосого кузена – прозрачной белизной кожи, беззащитностью поникшего пениса, розовой женственностью сосков. Он сделал вид, будто испытывает чисто художественный интерес: грозно глянул на рисунки Уильяма и других учеников, словно намеревался сам схватить лист бумаги и несколькими угольными линиями запечатлеть невыразимую силу наготы. Однако сильнее всего юного Генри Джеймса, в котором пробуждающееся писательское чувство было сильнее полового влечения, заворожил собственный сложный отклик на спокойную наготу родственника.