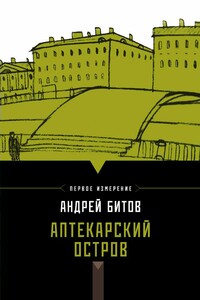4. Беречь нечего. Все открыто Шлёцеру сумасбродному. В Российской библиотеке есть больше секретов. Вверили такому человеку, у коего нет ни ума, ни совести, рекомендованному от моих злодеев.
5. Приносил его выс[очеству] дедикации. Да все! и места нет.
6. Нет нигде места и в чужих краях.
7. Все любят, да шумахершина.
8. Malta tacui, multa pertuli, multa concessi (многое принял молча, многое снес, во многом уступил.).
9. За то терплю, что стараюсь защитить труды П[етра] В[еликого], чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство pro arris etc. (за алтари и т. д.).
10. Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют.
11. Ежели не пресечете, великая буря восстанет.
ЛОМОНОСОВ – из всех наименее бронзовый. В памятниках он не выше, не стройнее, не величественнее самого себя. То ли таков его памятный зачин: из Холмогор, за рыбным обозом, на медные деньги… – что он нам как бы ближе и понятней?.. Мы видим его неуместный парик, чулки и башмаки, а от лица остаются одни щеки. Монументы копируются с портретов – мы узнаём этот особый, единственно ломоносовский наклон головы: над листом бумаги крутит перо (гусиное), поглядывает вбок и в потолок, будто там для него что-то, на потолке, написано.
Ответ. Рифма или идея? Рифма и есть идея. То сходно с этим, а это созвучно с тем. Проблески единого закона… Ломоносов ТУДА смотрит, не на НАС. Взгляд его выражает благожелательное отсутствие.
Кабинетный медведь. То ли он голову наклонил, то ли парик съехал набок со слишком большой и дикой головы поморского недоросля. Что-то есть в нем младенческое – в его щеках, пухлости и буклях. Будто он никогда не менялся: от первого «мама» до последнего вздоха не переставал обучаться языку и прочему знанию, не повзрослев, не утратив именно младенческой гениальности познания.
«Математики по некоторым известным количествам неизвестных дознаются. Для того известные с неизвестными слагают, вычитают, умножают, разделяют, уравнивают, превращают, переносят, переменяют и наконец искомое находят… Прекрасныя натуры рачительный любитель, желая испытать толь глубоко сокровенное состояние первоначальных частиц, тела составляющих, должен высматривать все оных свойства и перемены, а особливо те, которые показывает ближайшая ее служительница и наперсница и в самые внутренние чертоги вход имеющая химия…» («Слово о пользе химии…», 1751).
Младенчество – сильная пора. Что такое русская наука до Ломоносова и после Ломоносова? Она не просто возникла при Ломоносове – ее к его приходу и быть не могло. А что Россия до Петра… мыслим ли Петербург, пока его еще не было? А что русская литература до Пушкина? – Пушкин-то на каком основании? Державина не хватает… Барков, что ли?..
Куда вернулся Петр из Амстердама, Ломоносов – из Марбурга? Не только на родину, но и на два-три века назад. С воспоминаниями о цивилизации, с образом XVIII века, бывшего настоящим временем, а ставшего будущим. И настоящее время России становилось в их взгляде прошлым. Понадобились именно их титанические энергия, усилия и труды. Существуя в трех исторических временах, как в трех грамматических, лишь эти люди могли надорваться в двух самых немыслимых для человека подвигах: ускорить время, приподнять уровень. Невидимая линия уровня – самый большой вес, который может взять человек (поднять над головой).
И ломоносовское переложение из Иова становится тогда не только переводом. Божественная страсть закипает в стихе, обеспеченная опытом российского ученого. Глас Божий звучит столь лично, что это уже удел лирики, а не оды. Если бы лирику писали титаны и боги исповедовались, посверкивая и погромыхивая, катая сизифовы ядра слов иного состава и удельного веса, – то была бы иная лирика. Ибо кому же исповедуется Бог, когда над ним уже никого нет? Не нам же он жалуется. Одиночество иного порядка…
Где был ты, как передо мною
Бесчисленны тьмы новых звезд,
Моей возжженных вдруг рукою
В обширности безмерных мест,
Мое величество вещали;
Когда от солнца воссияли
Повсюду новые лучи,
Когда взошла луна в ночи?..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .