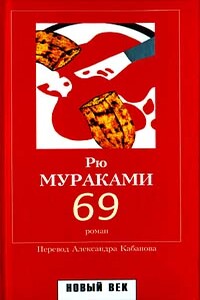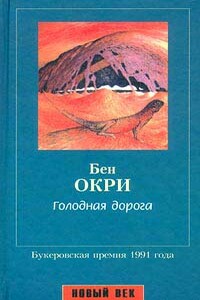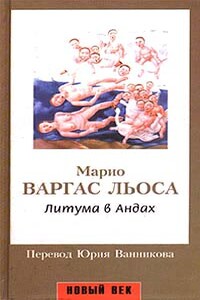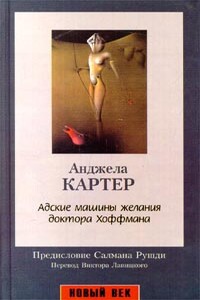Вспышка света повторилась вновь, проникнув в потаенные глубины, где он пребывал, вконец изможденный долгим постом. Странно: в этом молочном полумраке Робинзону показалось, что она вызвала прямо противоположный эффект; в какую-то долю секунды окружающая белизна почернела, но тут же вновь обрела свое безупречное снежное сияние. Как будто чернильная волна прихлынула к зеву пещеры, чтобы через миг отпрянуть, не оставив после себя и следа.
У Робинзона появилось предчувствие опасности: если он хочет когда-нибудь вновь увидеть белый свет, пора нарушить эти чары. В призрачно-белесых тайниках острова жизнь и смерть соседствовали весьма тесно: стоило на один миг ослабить внимание, волю к жизни, как жертве грозило преступить роковой предел, откуда нет возврата. Робинзон выбрался из ниши. Он не так уж ослаб или застыл — просто ощущал в себе какую-то особую легкость и одухотворенность. На сей раз ему удалось без труда проникнуть в лаз, ставший удивительно широким. Оказавшись наверху, в глубине пещеры, он ощупью нашел свое платье и, не желая тратить время на одевание, скатал его и сунул под мышку. Молочные сумерки по-прежнему окружали Робинзона, и это внушало ему беспокойство: уж не ослеп ли он за время своего долгого пребывания под землей? Шатаясь, пробирался он к выходу, как вдруг словно огненный меч полоснул его по лицу. Жгучая боль пронзила глаза. Робинзон спрятал лицо в ладонях.
Воздух, раскаленный полуденным солнцем, дрожал и плавился вокруг него. То был час, когда даже ящерицы стараются укрыться в тени. А Робинзон брел вперед, скорчившись и дрожа от холода, сжимая влажные от прокисшего молока колени. Одиночество, беззащитность среди этого мира жгучих колючек и острых камней наполняли его душу горечью и страхом. Он был наг и бел. Кожа его покрылась пупырышками — такие могли выскочить на спине ежа, испуганного тем, что он лишился своих колючек. Из-под стиснутых пальцев вырывались сдавленные рыдания, тонкие и пронзительные, как мышиный писк.
Кое-как он добрался до своей Резиденции в сопровождении Тэна, который возбужденно прыгал от счастья, что хозяин вернулся к нему, хотя его явно обескуражила произошедшая с тем метаморфоза. Первой заботой Робинзона в блаженном полумраке дома было пустить в ход клепсидру. —
Дневник. Мне пока еще трудно оценить все значение моего спуска вниз и пребывания в чреве Сперанцы. Благом ли было оно? Или злом? Это требует серьезнейшего расследования, для коего в настоящее время не хватает важных улик. Надо сказать, что воспоминание о кабаньем болоте внушает мне сильную тревогу, ибо пещера имеет явное сходство с ним. Но не являлось ли извечно зло карикатурой на добро? Не подражал ли Богу Люцифер на свой лад, гримасничая и кривляясь? Так что же для меня пещера — новая соблазнительная ипостась болота или же решительная противоположность ему? Неоспоримо ведь, что пещера, как и болото, возрождает призраки былого; мечтательные воспоминания о младенчестве, в которые я погружаюсь по ее милости, не имеют ничего общего с ожесточенной ежедневной борьбой за то, чтобы поднять Сперанцу на елико возможно высокий уровень цивилизации. Но если болото почти всегда преследовало меня образом моей сестры Люси — нежного, эфемерного существа, не жилицы на этом свете, — то пещера возрождает передо мною благородный и строгий облик матери. Завидное покровительство! Мне чудится, будто ее великая душа, желая прийти на помощь своему попавшему в беду ребенку, воплотилась в самой Спе-ранце, дабы спасти и прокормить его. Разумеется, испытание это тяжко, а возврат к свету еще мучительнее, чем добровольное мое заточение во мраке. Но мне хочется видеть в этой благожелательной строгости острова характер моей матери, которая не признавала успеха, если он предварительно не был подготовлен — и как бы заранее оплачен — тяжкими усилиями. И сколь же утешен я этим опытом! Отныне жизнь моя зиждется на фундаменте замечательной прочности, скрытом в каменном сердце острова, и прочность эту пита-ют дремлющие там до поры до времени силы. Прежде, с раннего детства, характер мой отличался неуверенностью, неустойчивостью, порождавшими смутные страхи, тоску и отвращение. Я утешался мечтами о доме — доме, где смогу окончить свои дни, — и почему-то всегда представлял его себе сложенным из массивных гранитных плит, неколебимо стоящим на мощном, каменном же фундаменте. Нынче я уже не мечтаю о таком. У меня больше нет в этом нужды.