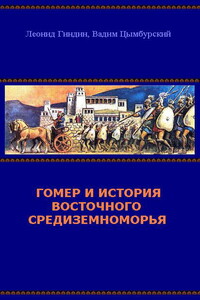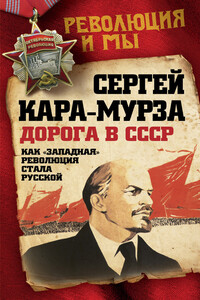Там долго разглядывали сотни книг, свитков, тетрадей, писем, никогда не бывавших под печатным станком, громадные фолианты XVII столетия, листы с вьющимся узором арабских букв, спокойный «государственный» почерк кардинала Ришелье, танцующий вихрь строчек Петра Великого.
Под стеклом одной витрины — роскошное евангелие. На последнем листе приписка: «Дьякон Григорий. Написал евангелие сие рабу божьему Остромиру, родственнику Изяслава князя».
Остромирову евангелию в 1957 году исполнилось 900 лет. Ни одной русской книге никогда столько не исполнялось.
— Ага! Вот она! — закричал я несколько громче, чем подобает наставнику юношества.
— Кто? Что?
— Разве вы не видите? Летопись! Та самая. Ну конечно, в классе мы читали современное издание старой летописи, а тут сам подлинник…
Мы глядели на желтоватые, немного обветшалые листы, на неторопливые, старинные буквы. Древние книги — медленны, как время, прошедшее после них, и как века, уместившиеся на их листах. Словно ворота старинного дома, охраняют книгу обтянутые кожей доски переплета, окованные в серебро, украшенные драгоценностями, или простые и суровые. Случалось, они десятилетиями не открывались, эти ворота; и стояли книги-памятники для молчаливого созерцания.
Многочисленные засовы и запоры старой книги открываются и закрываются медленно. «Который поп или дьякон читает и не застегает всех застежек — будет проклят»[2] Медленность и в самих листах. Прочный и вечный пергамен. Вечность уже в самом его имени. Со второго века до нашей эры изобретение пергамских мастеров послужило примерно семидесяти человеческим поколениям. Бумажный лист появился на Руси в XIV веке, но окончательно утвердился лет через 100–200…
Древний пергамен именовался еще «телятиной», и вот почему: тщательно чистили, шлифовали и резали телячью кожу мастера, пока не стала она листами книг. «Десять телят на одно евангелие». На летопись поменьше.
Не торопясь и понемногу варили и «вечные» чернила.
«Взять старый гвоздь или старое железо, добавить дубовой или ольховой коры, для вязкости, вишневого клея или камеди для блеска, долить квасу или кислых щей, меда или патоки…»
Не спеша очиняли гусиное, лебединое, изредка павлинье перо и писали без торопливости. Буква к букве, одна к одной, слово к слову. Ручная работа не любит спешки. Есть время и пожаловаться на полях: «Лихое перо, невольно им писати» или «Ох мне лихого сего писания и еще ох»… Есть время и оставить место для заглавных букв, заставок, которые нарисует специальный мастер краской золотой или серебряной, оранжевой сурьмой, а то и византийским пурпуром из сока моллюсков, выловленных с морского дна…
Я называю старую книгу полным именем и титулом:
— Лаврентьевская летопись. Старейшая из сохранившихся древнерусских летописей.
— Почему Лаврентьевская? Кто такой Лаврентий? Уж не он ли тот самый великий летописец, про которого вы нам так и не рассказали?
Я задумываюсь:
— Ну как же, ребята, я вам все это расскажу? Это же длинный-длинный рассказ, да в нем столько еще неясного, неизвестного, таинственного… Чтобы все по порядку изложить, надо, пожалуй, целую книгу написать.
Но моих школьников разве смутишь.
— Вот и напишите!
Я подумал… да и написал.
Так родилась эта книга.
Жаль только, что, пока я собирался да писал, «Огонь-ребята» мои взяли да школу окончили…
Глава 1. Беспокойный граф
Сие сельцо куплено на мое серебрецо.
Поговорка
Дом был с секретом. В нем были коридоры, подвалы, тупики, переходы и тайники, назначения которых никто, кроме хозяина, не знал. Впрочем, знал еще Матвей Федорович Казаков, строивший дом по заказу хозяина. Домовладелец был персоной важной и таинственной.
Со старинного портрета глядит его круглая, простецкая физиономия. У него хитрые, разной величины глаза. Один — смотрящий обыкновенно, другой — прищуренный и нечто таящий.
Род Мусиных-Пушкиных был древним, но захудалым. Со времен Петра I дело, однако, пошло: Мусины-Пушкины вознеслись, расцвели, пробились в графы.
Дальняя родня — Пушкины (не Мусины-Пушкины) — попадала в опалу при Петре I, продвигалась при Петре III, снова изгонялась при Екатерине II. А Мусины-Пушкины — что ни переворот, что ни власть — оставались в выигрыше.