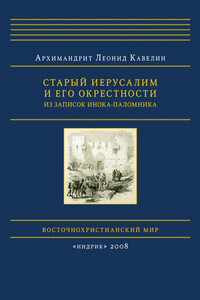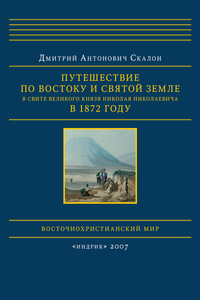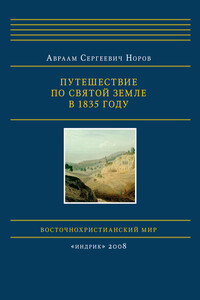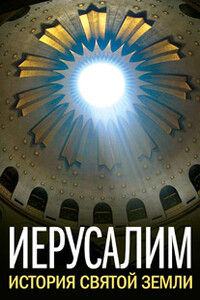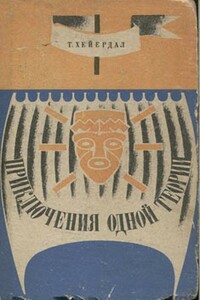Но продолжим цитату из грузинского экскурса Муравьева. «После Мириана ходил в Иерусалим для поклонения потомок его, именитый царь Вахтанг Гург-Аслан, о коем в тамошних летописях сказано, что султан египетский просил его исторгнуть Святой Иерусалим у обладавших оным франков. Посему он завоевал Иерусалим и всю Палестину и построил много монастырей, долгое время бывших во владении грузин, ибо Вахтанг, для охранения святых мест, поселил там грузинских воинов, и доныне потомки их живут около Иерусалима и по Евфрату, но язык их переменился на арабский».
Здесь опять в одной фразе смешались отголоски исторических фактов, поэтические легенды и досужие монастырские домыслы. Монастыри, основанные грузинами, в Иерусалиме существовали и существуют, хотя по фактической принадлежности перешли уже в XVI–XVII вв. в собственность греков и армян. Но хронологические указания митрополита Тимофея и пересказывающего его А. Н. Муравьева способны только запутать читателя. В эпоху названного картлийского государя Вахтанга Горгасали (вторая половина IV – начало V в.) ни «султанов египетских», ни «франков» просто еще не существовало, Иерусалим входил тогда в состав православной Византийской империи. Позволительно лишь догадываться, что за фантастической датировкой могут в данном случае скрываться предания о событиях намного позднейших – о возможном участии грузин в отвоевании у крестоносцев («франков») Палестины и Иерусалима Саладином («султаном египетским»).
Как видим, комментирование подобных сюжетов при плохой документированности древнейшей эпохи грузинского присутствия в Святой Земле требует всякий раз отдельного обстоятельного исследования. Это дело будущего. Уважение к преданию Грузинской Церкви (и к обычной обстоятельности и осведомленности А. Н. Муравьева) заставило нас с сожалением отказаться от перепечатки в настоящем издании неисправных и слишком часто не поддающихся перекрестной проверке по памятникам других традиций фрагментов текста архиепископа Тимофея.
Сказанное отчасти справедливо и в отношении качества и достоверности последнего из дополнений к книге, сделанного Муравьевым при подготовке ее четвертого издания (1840). Стремясь все к той же полноте представляемых сведений о Святой Земле, он решил включить в нее также характеристику современного состояния Иерусалимского Патриархата. По настойчивой просьбе писателя патриарх Афанасий поручил секретарю своего Синода, известному иерусалимскому книжнику Анфиму, составить краткую справку о числе епархий и монастырей, с указанием численности православного населения по каждой епархии.
Сочинение Анфима «О пределах патриаршего Иерусалимского Престола» является само по себе любопытным и поучительным источником по истории Иерусалимской Церкви. Его достоинства и недостатки отражают не только состояние статистики и археологии Палестины того времени, но и дух, и особенности жизни и внутреннего устроения Иерусалимской Патриархии. Оно свидетельствует, например, и о том, что секретарь Иерусалимского Синода Анфим, как и большинство тамошних синодалов, никогда не покидали пределов Святого Града, не слишком интересовались состоянием храмов и церковной жизнью местного арабского православного населения. Поступавшие в Патриархию сведения из епархий страдают, прямо скажем, нарочитой неточностью: владыки назаретские или вифлеемские сознательно занижают даже цифровые показатели численности своей паствы, чтобы меньше платить положенных отчислений в бюджет Святогробского братства. Не будем утомлять читателя арифметикой и критикой источников, наиболее бросающиеся в глаза несоответствия отмечены нами в примечаниях. Мы хотим лишь подчеркнуть, как трудно было при подобных источниках А. Н. Муравьеву в 1830-е гг. выступать историком и апологетом Иерусалимской Церкви.
Открывая книгу А. Н. Муравьева, читатель с первых страниц убеждается, что перед ним типичная «проза поэта» – об этом свидетельствует как возвышенный настрой, так и собственно язык произведения. В работе над книгой автору удалось создать особый поэтический стиль, в котором слились до неразличимости цитаты из библейских книг, романтическая память рыцарских подвигов и собственные излияния души автора.