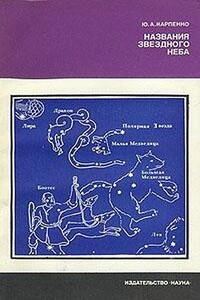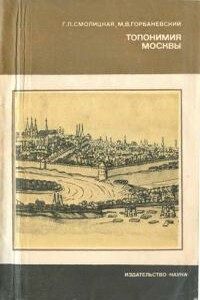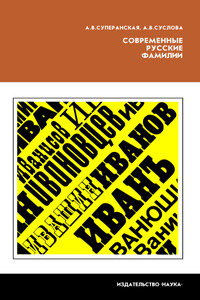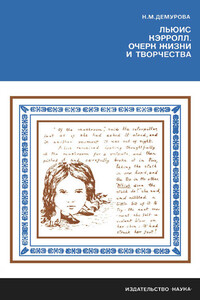Пушкин в 1836 году - страница 17
Приём, устроенный поэтом для Леве-Веймара, был, кажется, единственным за всё лето большим вечером у Пушкиных.
6
В июле — августе дружеские встречи тоже стали редкими. Почти все близкие и знакомые поэта на лето уехали из Петербурга. Теперь Пушкин появлялся в городе только по делам. Остававшийся в городской квартире поэта старик Никита метко высказался по поводу этих стремительных посещений Пушкина: «Если покажется, то как огонь из огнива» (XVI, 142).
Вот тогда-то, в дачном уединении, Пушкин стал писать, «как давно уж не писал» (XVI, 133). Ежедневно с утра он закрывался в своём кабинете, и никто из домашних не смел беспокоить его в это время.
«Настоящее место писателя есть его учёный кабинет {…} независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы» (XII, 81). Это было сказано Пушкиным в июле 1836 г. Тогда, в пору счастливого творческого подъёма, ощущая всемогущество своего дара, он надеялся, что сумеет противостоять и мелочам жизни, и ударам судьбы.
Главный труд, которым поэт был занят летом 1836 г., был его исторический роман. Пушкин, как он сам однажды признался Далю, долго не мог «сладить» с этой вещью. Планы этого романа он обдумывал более трёх лет. Но вот теперь дело, наконец, сдвинулось. Роман ещё не имел названия, но манера повествования уже определилась, план прояснился, и все лица ожили в его воображении. Работа пошла, и Пушкин знал, что скоро доведёт её до конца.
Во время работы над историческим романом Пушкин, как это часто с ним бывало, обращался и к другим замыслам. На Каменном острове он написал более десяти статей для «Современника», в том числе и такие значительные по проблематике и по объёму вещи, как «Вольтер», «Джон Теннер», «Мнение M. E. Лобанова о духе словесности…».
В летние месяцы 1836 г. был создан и знаменитый каменноостровский лирический цикл, которому суждено было стать последним и завершающим в поэзии Пушкина.
В июле поэт вновь обратился к рукописи «Медного всадника». Он хотел попробовать переработать самые «опасные» строки поэмы с тем, чтобы представить её в общую цензуру. Увлёкшись стилистической правкой, Пушкин переделал ряд стихов, но так и не сумел устранить из текста все крамольные места, вызвавшие три года тому назад неудовольствие царя.[62] Поэт не мог и не хотел исключить из поэмы сцену бунта Евгения и его угрозу, обращённую к Медному всаднику. Тем не менее Пушкин отдал исправленную рукопись писцу, а когда была готова писарская копия, внёс в неё ещё несколько мелких поправок — на этот раз сугубо цензурного характера. Поэт намерен был снова вступить в спор со своими цензорами; он готовил поэму к печати.
23 июля Пушкин поставил дату на последней странице черновой рукописи «Капитанской дочки». Это был знаменательный для него день. Он одержал победу над всем тем, что мешало ему дышать и работать. Исторический роман, который так нелегко дался ему, был в основном завершён.
Известие о том, что Пушкин закончил новую большую вещь, сразу распространилось в кругу друзей поэта. 25 июля Александр Карамзин сообщил брату со слов Вяземского и Одоевского самую важную литературную новость последнего времени: «Пушкин собирается выпустить новый роман».[63]
Интенсивность творчества Пушкина в июне — июле 1836 г. поразительна. Давно у него не было такого лета. Этот высокий подъём, явившийся после мучительного для Пушкина творческого спада осени 1835 г., был стимулирован тем, что у поэта теперь появился «свой голос» — журнал, на который он возлагал большие надежды. «Современник» должен был для него стать и трибуной, которой Пушкин до сих пор был лишён, и тем органом, вокруг которого он надеялся объединить передовые силы русской литературы, чтобы противопоставить их всё усиливающемуся «торговому» направлению.
Состояние тягостной неопределённости, томившее поэта прошлой осенью, сменилось счастливым чувством вновь обретённой творческой свободы. В этом состоянии полной внутренней раскованности он писал: «Пред силою законной Не гнуть ни совести, ни мысли непреклонной…» (III, 1032). Такова была выстраданная им жизненная позиция. Она давала ему опору в творчестве и в борьбе, но грозила многими бедами.