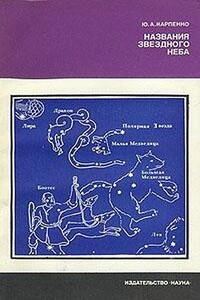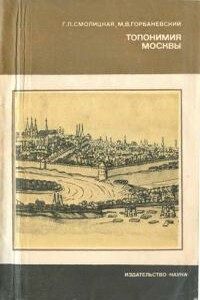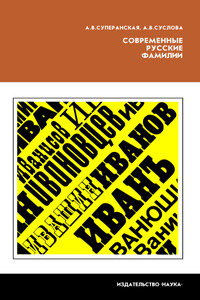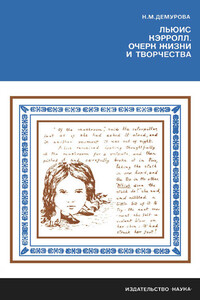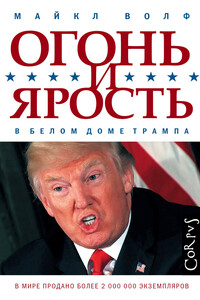Пушкин в 1836 году - страница 19
Всё её письмо, хотя оно и посвящено весьма щекотливым денежным расчётам, исполнено внутреннего такта и какой-то особенной, присущей этой женщине милой ласковости.
Просьба Натальи Николаевны была настолько справедливой, что брат не мог ответить ей иначе, как согласием. Однако он начал выплату лишь с октября 1836 г. При жизни мужа Наталья Николаевна успела только один раз получить от Д. Н. Гончарова деньги — 1120 рублей, что составляло четвёртую часть назначенного ей годового содержания. Рядом с огромной суммой долга, накопившегося за последний тяжёлый год, эта цифра кажется особенно скромной.
О том, каково было душевное состояние Пушкина в эти дни, позволяют догадываться отдельные дошедшие до нас свидетельства. По-видимому, в конце лета 1836 г. Пушкин пережил момент острого отчаяния и крушения всех своих надежд. Побывавший у поэта на даче Н. А. Муханов рассказывал 30 августа у Карамзиных, что он нашёл Пушкина «ужасно упадшим духом».[66] Отзыв Муханова перекликается с уже известными нам строками из письма жены поэта.
Глубоко трагичны по мироощущению лирические произведения Пушкина, созданные в это время. 14 и 21 августа помечены два стихотворения, внутренне связанные между собой темой смерти и посмертной памяти: «Когда за городом задумчив я брожу…» и то, которое мы привыкли называть «Памятником».
По мнению М. П. Алексеева, сам поэт в момент создания стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» рассматривал его «как своего рода прощание с жизнью и творчеством в предчувствии близкой кончины».[67]
В эти же дни на обороте листка, на котором записаны черновые строфы «Памятника», Пушкин набросал карандашом следующие строки:
(III, 429)
Хотя мы знаем, что это фрагмент из начатого поэтом вольного перевода X сатиры Ювенала, строки эти, написанные одновременно с «Памятником», воспринимаются как знак того же душевного состояния, которое вызвало к жизни пушкинское прощальное стихотворение. «Здесь мы снова находим, хотя и недосказанную, навязчивую мысль о смерти и полную горечи насмешку над долголетием», — пишет М. П. Алексеев.[68]
И вместе с тем самый факт создания стихотворения «Я памятник себе воздвиг…» говорит о таком взлёте вдохновения, который изнутри изживает трагическую коллизию, его породившую.
Как ни трудно складывались обстоятельства, и август и сентябрь 1836 г. прошли у Пушкина под знаком высокого творческого подъёма. В сентябре он работал над беловой редакцией «Капитанской дочки». В конце месяца поэт отослал собственноручно переписанную им первую часть романа цензору П. А. Корсакову. Корсаков, у которого была репутация одного из самых образованных и доброжелательных цензоров, прислал Пушкину ответ на следующий день. Это было в высшей степени любезное письмо. П. А. Корсаков сообщал, что он только что прочёл новое произведение Пушкина и готов хоть сейчас подписать его к печати. Первый читатель пушкинского романа высказался о нём с неподдельным восхищением: «С каким наслаждением я прочёл его! или нет; не просто прочёл — проглотил его! Нетерпеливо жду последующих глав» (XVI, 162). Это письмо было для поэта неожиданной радостью после всех злоключений с цензурой, которые ему пришлось пережить за этот год. Работу над беловым текстом романа Пушкин завершил три недели спустя. На последней странице рукописи он поставил дату: «19 окт. 1836». Так поэт отметил для себя 25-летие Лицея.
Рукописи Пушкина, помеченные этой датой, дают нам единственную в своём роде возможность увидеть, как работал поэт в ту осень.
19 октября Пушкин дописал заключительные страницы «Капитанской дочки». В этот же день он работал над стихотворением «Была пора: наш праздник молодой…». Приуроченное к лицейской годовщине, оно, как известно, осталось незавершённым. Днём Пушкин переписал набело те строфы, которые он успел закончить, с тем чтобы вечером прочесть их на встрече у М. Л. Яковлева.