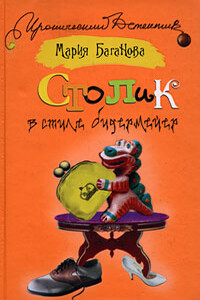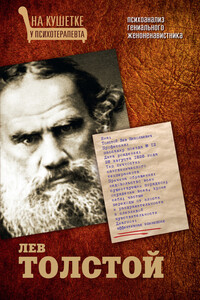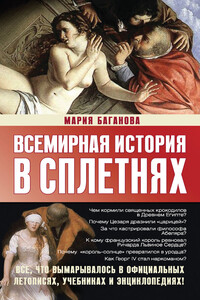Кроме того, семейство Пушкиных отличалось удивительной непоседливостью, они любили менять квартиры, а если где-то задерживались, то беспрестанно переставляли в доме мебель. Приходя к ним, я с изумлением видел, что бывшая спальня вдруг стала гостиной, а гостиная переехала в столовую. Я привык к тому, что в их доме всегда царил беспорядок, а если меня приглашали остаться к обеду (что случалось несколько раз), то я не мог не заметить, что подаваемые за столом салфетки часто были недостаточно накрахмалены и плохо выстираны и желтоваты. В иные мои визиты хозяйка дома встречала меня веселая, приветливая и нарядная: не имея ни малейших притязаний на красоту, давно увядшую, она сохранила все привычки своей молодости и одевалась так же долго и старательно, как и тридцать лет назад. Но в другой раз я узнавал, что она уже несколько дней не выходит из комнаты, погрузившись в глубокую печаль и не удосуживаясь даже причесаться.
Перемены в ее настроении не были связаны с реальным состоянием ее здоровья, а всецело зависели от настроения. По словам супруга такое времяпрепровождение было ей свойственно всю жизнь: она могла неделями просиживать в спальне, а потом вдруг с месяц подряд каждый вечер выезжать в свет и плясать до изнеможения. Но легкомыслие, которое было недостатком в жизни повседневной, оказалось достоинством в жизни публичной: остроумная и изящная Надежда Осиповна блистала в светских салонах.
Теперь, постаревшая и больная, она томилась вынужденным бездельем, скучала и охотно откровенничала, вспоминая былые годы, когда она кружила головы другим и влюблялась сама. Она описывала кавалеров, из коих половина сгинула на полях войны, красавиц, давно состарившихся, но порой описывала детство и юность своих детей, и, конечно, – Сашеньки, то есть Александра Сергеевича Пушкина, который как раз собирался жениться. Невеста его была признанной красавицей, но это и все, что Надежда Осиповна могла сказать ей в похвалу.
– У Натали необыкновенно выразительные глаза и очаровательная улыбка, – говорила Надежда Осиповна. – Ее притягивающая простота в общении помимо ее воли покоряют всех. Но для меня так и осталось загадкой, откуда обрела Наталья Николаевна такт и умение держать себя? Все в ней самой и манера держать себя проникнуто глубокой порядочностью. Все comme il faut – без всякой фальши. И это тем более удивительно, что того же нельзя было сказать о ее родственниках. Сестры ее красивы, но изысканного изящества Наташи напрасно искать в них. Отец слабохарактерный, а под конец стал и не в своем уме, никакого значения в семье он не имеет. Мать далеко не отличается хорошим тоном и частенько бывает груба и пренеприятна. К тому же она любит выпить. Наталья Николаевна явилась в этой семье удивительным самородком.
– Так что же смущает вас, Надежда Осиповна, – спросил я.
– Уж больно она молода, – пожаловалась мне престарелая прелестница. – И, как мне кажется, Наташенька не очень умна и ветрена. Лучше бы Саша выбрал кого-то постарше и помудрее.
– Возможно, с возрастом это исправится, – предположил я.
– С возрастом… – вздохнула Надежда Осиповна, сама когда-то славившаяся легкомыслием. – Но сейчас союз Сашенькиного непостоянного характера и легкомыслия его избранницы не кажется мне идеальным.
Эта часть ее рассказа, в отличие от фасонов модных платьев екатерининских и павловских времен, интересовала меня безмерно, и я старался наводящими вопросами перевести разговор именно на эту тему. Надо сказать, что, несмотря на словоохотливость, Надежда Осиповна все время перескакивала с предмета на предмет, с трудом задерживаясь на одной теме.
Родила она восемь детей, из которых выжило лишь трое. Увы, такова печальная правда нашей жизни! Детьми могла она не заниматься месяцами, всецело поручая их нянькам и гувернерам, а потом вдруг находила на нее охота воспитывать, и она принималась целыми днями заниматься с детьми французским или этикетом.
– Это моя заслуга, что Сашенька уже в детстве в совершенстве знал французский язык, за что в Лицее среди прочих имел прозвище Француз, – хвалилась она.