, то безрассудно» (Там же; курсив Жуковского).
Полученное через два месяца письмо Вяземского стало, таким образом, для Пушкина своеобразным сигналом от друзей, что время договариваться с правительством пришло. В повторном обращении к поэту от 31 июля 1826 года Вяземский говорит об этом еще более определенно, снова объясняя, почему он так считает: «Ты имеешь права не сомнительные на внимание, ибо остался неприкосновен в общей буре» (XIII, 289).
Так образ морской бури из необязательного сравнения становится важным мотивом переписки Пушкина — Вяземского, поскольку не просто повторяется, но и вписывается в поэтический контекст, — письмо Вяземского от 31 июля содержит стихотворение «Море», где говорится о волнах:
В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей девственной святыни
Не опозорена лазурь.
Кровь братьев не дымится в ней!
На почве, смертным непослушной,
Нет мрачных знамений страстей,
Свирепых в злобе малодушной!
(XIII, 287)
Эта строфа, как известно, вызвала стихотворное возражение Пушкина:
Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун Земли союзник.
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.
(XIII, 290)
Важнейшей в переписке поэтов становится и тема судьбы. Так, узнав о смерти трехлетнего сына Вяземского, Пушкин отзывается на это:
Судьба не перестает с тобою проказить. Не сердись на нее. ‹…› Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? не ты, не я, никто (XIII, 278).
Мысль о возможности прямого обращения к правительству возникла у Пушкина еще до совета Вяземского. Во второй половине мая он писал императору:
Ныне с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом) (XIII, 283).
Это полное внутреннего достоинства письмо остается без ответа, а Вяземский находит его «сухим и холодным» и советует написать другое, адресовав его в Москву, где должна была состояться коронация.
Этот совет доходит до поэта сразу же после потрясшего его известия о казни декабристов.
Ты находишь письмо мое холодным и сухим, — отвечает он Вяземскому 14 августа 1826 года. — Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы (XIII, 291).
Итак, второе письмо с предложением компромисса правительству принципиально не было написано. Более того, этот ответ Вяземскому от 14 августа и содержит в себе стихотворение «Так море, древний душегубец…», одно из самых горьких в пушкинском творчестве. А чтобы ни у Вяземского, ни у возможных перлюстраторов письма не оставалось сомнений, по какому поводу оно написано, Пушкин сопровождает стихотворение следующим комментарием: «Правда ли, что Николая Т‹ургенева› привезли на корабле в П‹етер›Б‹ург›? Вот каково море наше хваленое!» (XIII, 291).
Такое поведение, вопреки призывам друзей к скромности и раскаянию, являлось несомненным вызовом правительству. И Пушкин сознательно идет на него, несмотря на то что уже в середине июля молчание императора расценивается им как знак в высшей степени неблагоприятный: «Если б я был потребован коммисией, то я бы конечно оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру» (XIII, 286). В этом же письме поэт горько пеняет Вяземскому за дурной отзыв о декабристах: «…кого ты называешь сорванцами и подлецами? Ах, милый… слышишь обвинение, не слыша оправдания, и решишь: это Шемякин суд» (Там же). Пушкин прекрасно знает, что за ним следят, а уж в том, что письма его читают, имел случай убедиться не раз. Поэтому приезд фельдъегеря в Михайловское и поездку в Москву под конвоем он считает арестом. У Н. И. Лорера были основания утверждать (со слов Л. С. Пушкина): «Зная за собой несколько либеральных выходок, Пушкин был убежден, что увезут его прямо в Сибирь»[482].
Тем более неожиданным оказалось свидание с Николаем I, завершение ссылки, освобождение от цензуры…
Исторический шквал, потрясший русское общество 14 декабря, — пишет В. Э. Вацуро, — в личной судьбе Пушкина обернулся сцеплением случайностей. Шесть лет никакие хлопоты друзей не могли освободить его, сосланного без прямого политического преступления и при отсутствии твердых улик. Сейчас, когда появилась несомненная улика — показания арестованных заговорщиков ‹…› его освобождают и обещают покровительство. Все происходит в единый момент, неожиданно и чудовищно парадоксально




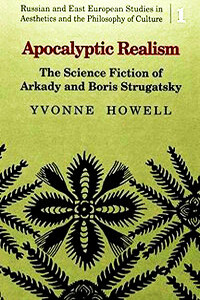
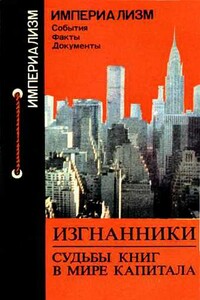

![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)