В. Э. Вацуро принадлежит наблюдение о том, что слова, вложенные Пушкиным в уста Александра I, «с божией стихией Царям не совладать», повторяют слова императора Н. М. Карамзину из письма от 10 ноября 1824 года и являются косвенной цитатой из «Записки о древней и новой России»:
Мой долг быть на месте: всякое удаление причту себе в вину. ‹…› Воля божия: нам остается преклонить главу пред нею[639].
Именно В. Э. Вацуро первым поставил вопрос о соотношении «Медного всадника» и «Записки о древней и новой России» Карамзина[640]. Важность этой проблемы для определения идеологического генезиса «Медного всадника» невозможно переоценить. Дело в том, что в русской литературе до пушкинской поэмы только «Записка» совмещала в себе обе парадигмы, о которых речь была выше. Здесь Карамзин, с одной стороны, отмечает заслуги Петра как великого реформатора и основателя, приобщившего Россию к Европе («Он сквозь бурю и волны устремился к своей цели: достиг — и все переменилось! Сею целью было не только новое величие России, но и совершенное присвоение обычаев европейских… Потомство воздало усердную хвалу сему бессмертному государю и личным его достоинствам и славным подвигам»[641]), а с другой стороны, осуждает его как вождя нации, презревшего ее идентичность и, таким образом, ответственного за ее цивилизационный раскол. Квинтэссенцией ошибок Петра Карамзин считает основание Петербурга:
Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею основание новой столицы на северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных природою на бесплодие и недостаток ‹…› Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действо сего намерения? Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах ‹…› Там обитают государи российские, с величайшим усилием домогаясь, чтобы их царедворцы и стража не умирали голодом и чтобы ежегодная убыль в жителях наполнялась новыми пришельцами, новыми жертвами преждевременной смерти! Человек не одолеет натуры![642]
При том, что полный текст «Записки» стал известен Пушкину только в 1836 году («…Никто не знал даже о существовании этой Записки; самые близкие люди, друзья ничего о ней никогда не слыхали. Записка найдена случайно в 1836-м году, через долгое время по смерти Карамзина и Императора Александра. Двадцать пять лет она скрывалась под спудом…»[643]), исследователи находили следы знакомства Пушкина с этим документом в произведениях Пушкина, написанных существенно ранее этого времени[644]. Как отметил В. Э. Вацуро, «многие из ее („Записки“. — И. Н.) идей были восприняты им в живом общении с автором»[645]. К этому мне хотелось бы сделать важное для наших дальнейших выводов замечание: Пушкин не принадлежал к числу близких друзей и конфидентов Карамзина даже в короткий период их «живого общения» (1816–1818)[646], и уж если Пушкин знал содержание Записки, то тем более это содержание было известно тем, кто составлял близкий круг единомышленников Карамзина. Здесь в первую очередь следует назвать людей, чьи имена еще встретятся нам в настоящей работе, — это С. С. Уваров, Д. Н. Блудов и Д. В. Дашков. Все трое, и в особенности первый, будут иметь отношение к Пушкину в период становления его взглядов на Петра, определяя тот идейный контекст, в котором создавался «Медный всадник». Все трое были носителями идеологии, нашедшей свое выражение в «Записке Карамзина»; как это определил один из самых осведомленных пушкинских современников, М. А. Корф:
…Записка Карамзина имеет для нас, потомков, большую историческую цену ‹…› как искусная компиляция того, что он слышал вокруг себя. ‹…› В этом смысле «Записка о старой и новой России» [представляет] собою общий, так сказать, итог толков тогдашней консервативной оппозиции…[647]
Осмысление Петра в рамках эсхатологической парадигмы «конца Петербурга» как «идола» и «ложного божества» имело для Пушкина единичный характер и проявило себя исключительно в «Медном всаднике». Еще в «Полтаве», написанной в 1829 году, Петр изображается иначе и совершенно в официозном духе




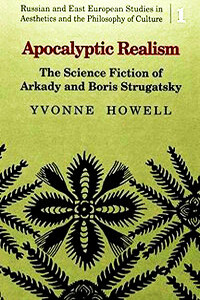
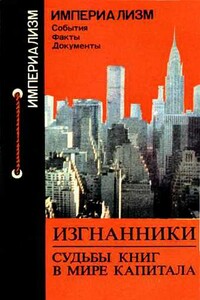
![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)