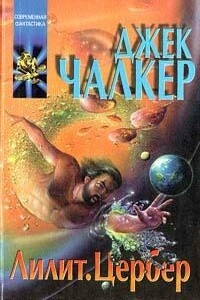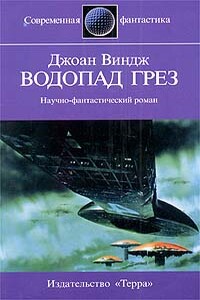— Когда я понял, что мне не вернуть сына, — вслух произнес Зибелинг, — я хотел выбросить из головы все, абсолютно все. Я утратил веру и перестал жить… Это продолжалось долго… — Он смотрел на меня, как будто видел впервые. Я почувствовал, что те воспоминания, которые я похитил у него, закипают в моем и в его сознании. — Пока транспортники не предложили мне заняться исследованиями по псионике, чтобы помогать псионам, — этого никто до меня не делал. Потом мне попался молодой уголовник из Старого города с телепатической амнезией, который все говорил и делал невпопад, пока я не выгнал его, сам не понимая почему… Возможно, я винил тебя в том, что ты напоминаешь мне те страшные вещи, о которых я хотел забыть. Потому что существует удивительное сходство. Твои глаза и твой возраст поразительно совпадают…
Тут я вспомнил один странный разговор между нами в институте.
— Нет, вы ошибаетесь. У меня никогда не было родных, и всем на меня всегда было плевать.
— Но ты не уверен в этом. Ты говорил, что не можешь вспомнить…
— Я все прекрасно помню. Я всегда был сам по себе. — Моя внутренняя защита поднялась по тревоге: Зибелинг толкал меня на край черной пропасти моей памяти, в глубине которой копошилось нечто чудовищное и отвратительное.
— (Перестаньте, не надо.)
— (Докажи это.) — Его слова бухали у меня в голове, как тяжелые колокола.
Я должен был избавиться от него, и слова здесь бесполезны. Я продемонстрировал ему то, что мог, — обрывки сцен моей жизни, которые должны были навсегда похоронить его сумасшедшее подозрение:
— (Я никогда не был частью ваших воспоминаний!)
Я показал, что значило выживать в Старом городе: достаточно правды, чтобы пресечь все возможные вопросы с его стороны, и, наконец, самое сокровенное — полыхающий огонь, пепел и страшные крики… Я вновь посмотрел на Зибелинга. Он пробормотал:
— Да, я ошибся… Прости…
Он внутренне содрогнулся от тех картин, которые предстали перед ним.
Однако то, что я продемонстрировал, на самом деле ничего не доказывало. Я уже раскаивался в том, что позволил ему увидеть так много, и опустил глаза. И не мог смотреть на Джули.
— Прости, — повторил Зибелинг, пожалуй, слишком быстро. Он испытал облегчение. Он искренне хотел поверить в то, что я не могу быть его сыном. Он был рад, что я не его сын. Эти мысли полностью занимали его: он был доволен, что те кошмары, свидетелем которых он стал, не пришлись на долю его сына, и его совершенно не трогало, что все это произошло со мной. — Ты, ублюдок, да я лучше подохну, чем признаю себя твоим сыном!
Я снова резко поднялся в кровати.
— Значит, ты так и не нашел его? Подумать только, ведь, возможно, ему пришлось жить в грязи, возможно, он стал рабом, выкапывающим руду в какой-нибудь дыре, только потому что кому-то не понравилось его лицо. Я очень надеюсь, что ты никогда его не найдешь!
Зибелинг залепил мне пощечину. Джули смотрела на нас, как на сумасшедших.
— Я нисколько не ошибся в тебе, — проговорил, наконец, Зибелинг. Он резко развернулся и вышел. Джули была так потрясена, что, не в состоянии выдержать, молча вышла вслед за Зибелингом.
— (Я желаю, чтобы ты никогда его не нашел!) — яростно кинул я ему вдогонку перед тем, как свалиться в постель. Я долго лежал, и грудь моя разрывалась от боли.
Я уже преодолел половину склона холма, когда колени сдались. Мне почти удалось сделать вид, что именно здесь я намеревался присесть. С этого места открывалась неплохая панорама, если исключить из нее предпортовое поселение, о котором мне совершенно не хотелось думать. Я старался выбросить из головы комнату с белыми стенами, где я знал каждую трещинку на потолке; охранников с шахт в увеселительном заведении внизу, которые, казалось, только и ждут, чтобы опознать клеймо на моей руке; псионов, мечтающих разоблачить чужие секреты; порт и вообще все, что относится к человеческой цивилизации.
…Сейчас я был свободен от всего этого, пусть хоть на час, и ближайшей моей целью было покорение вершины холма. Но под неумолимым грузом усиленного в полтора раза притяжения я как будто полз, и мне никогда не удалось бы преодолеть этот путь без палки в руке и без помощи Дира Кортелью. Он приходил ко мне, когда мог вырваться и «чтобы убежать от собственных мыслей», как он выразился.