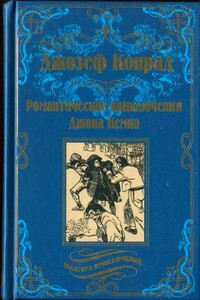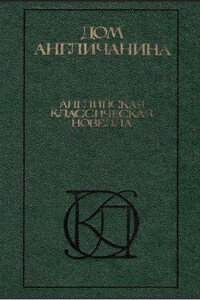Так они обычно здоровались друг с другом, и вызов, звучащий в ее высоком певучем голосе, был очень забавен и ребячлив. Джима это восхищало. В последний раз я слышал, как они обменивались этим знакомым приветствием, и сердце у меня похолодело. Высокий певучий голос… но замер он, казалось, слишком быстро, и веселое приветствие прозвучало как стон. Это было страшно.
— Где же Марлоу? — спросил Джим, а немного спустя я услышал: — Спустился вниз, да? Странно, что я его не встретил… Вы здесь, Марлоу?
Я не ответил. Я не хотел идти в дом… во всяком случае, не сейчас. Я не мог. Когда он звал меня, я направлялся к калитке, выходившей на недавно расчищенный участок. Нет, сейчас я не мог их видеть. Опустив голову, я быстро шел по дорожке. Здесь был небольшой подъем; несколько деревьев были срублены, кустарник срезан, трава выжжена. Джим решил устроить тут кофейную плантацию. Высокий холм, поднимая свою двойную вершину, черную как уголь в светло-желтом сиянии восходящей луны, словно опускал свою тень на землю, приготовленную для этого эксперимента. Джим задумал столько экспериментов; я восхищался его энергией и ловкостью. Но сейчас ничто не казалось мне менее реальным, чем его планы, его воля и энтузиазм.
Подняв глаза, я увидел, как луна сверкнула сквозь кусты на дне ущелья. Словно гладкий диск упал на дно этой пропасти и теперь отскакивал от земли, выпутываясь из переплетенных ветвей; голый искривленный сук какого-то дерева, растущего на склоне, черной трещиной пересек лик луны. Как будто из глубины пещеры луна посылала вдаль свои лучи, и в этом грустном свете пни срубленных деревьев казались очень темными. Тяжелые тени падали к моим ногам; моя собственная тень двигалась по дорожке, пересеченной тенью одинокой могилы, вечно увитой цветами. В затененном свете луны переплетенные цветы казались неведомыми и по форме и по цвету, как будто их срывали не руки человека, росли они не в этом мире и предназначены были только для мертвых. Их аромат плавал в теплом воздухе, делая его густым и тяжелым, как дым фимиама. Куски белого коралла бледнели вокруг темного холмика, как четки из побелевших черепов, и было так тихо, что, когда я остановился, как будто смолкли все звуки и весь мир оцепенел.
Великое наступило безмолвие, словно земля стала могилой, и некоторое время я стоял неподвижно, размышляя главным образом о живых, которые погребены в заброшенных уголках, вдали от человечества и все же обречены делить трагические или уродливо-смешные его несчастья. А не участвовать ли также в благородной его борьбе?.. Кто знает. Человеческое сердце может вместить весь мир. У него хватит смелости нести бремя, но где найти мужество его сбросить?
Должно быть, я впал в сентиментальное настроение; знаю только одно: я так долго там стоял, что мною овладело чувство полного одиночества. Все, что я недавно видел и слышал, казалось, ушло из мира и продолжало жить только в моей памяти, словно я был последним человеком на земле. Это была странная иллюзия, возникшая полусознательно, как возникают все наши иллюзии, которые кажутся мне лишь видениями далекой, недостижимой истины. То был действительно один из заброшенных, неведомых уголков земли, и я заглянул в темную его бездну. Я чувствовал: завтра, когда я навсегда его покину, он уйдет из жизни, чтобы жить только в моей памяти, пока я сам не уйду в страну забвения. Это чувство сохранилось у меня до сего часа; быть может, оно-то и побудило меня рассказать вам эту историю, попытаться передать вам живую ее реальность — истину, облеченную в иллюзию.
Корнелиус ворвался в нее. Он вылез, словно червь из высокой травы. Думаю, его дом гнил где-то вблизи, хотя я его не видел, так как не заходил далеко в этом направлении. Корнелиус скользил мне навстречу по дорожке. Его ноги, обутые в грязные белые ботинки, мелькали по темной земле; он остановился и начал хныкать и извиваться под своей высокой шелковой шляпой. Его маленькая высохшая фигурка была облачена в суконный черный костюм. Этот костюм он надевал по праздникам и в торжественные дни, и я вспомнил, что то было четвертое воскресенье, проведенное мной в Патюзане. Пока я был там, я все время смутно подозревал, что он хочет со мной побеседовать наедине. Что-то выжидая, он бродил поблизости, но робость мешала ему подойти, а, кроме того, я, естественно, не желал иметь дело с таким субъектом. И все-таки он бы добился своего, если бы не стремился улизнуть всякий раз, как на него посмотрят. Он бежал от сурового взгляда Джима, бежал от меня, хотя я и старался смотреть на него равнодушно; даже угрюмый, надменный взгляд Тамб Итама обращал его в бегство. Он всегда готов был улизнуть; всякий раз, как на него смотрели, он уходил, склонив голову на плечо, недоверчиво бормоча, или безмолвно, с видом человека, удрученного горем; ни одна маска не могла скрыть природную его низость, — так же, как никакое платье не скроет чудовищного уродства тела.