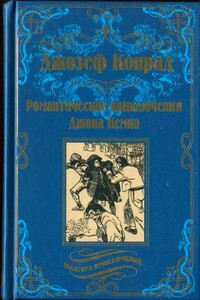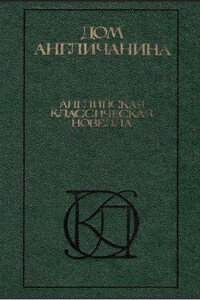Позиция Джима была выгодная, и он заставил всех троих сразу выйти из сарая. Все это время маленькая рука, ни разу не дрогнув, держала факел. Те повиновались, безмолвные, двигаясь, как автоматы. Он приказал им встать в ряд и скомандовал:
— Взять друг друга под руку!
Они повиновались.
— Тот, кто выдернет свою руку или повернет голову, — умрет на месте, — сказал он, — Вперед!
Они дружно шагнули вперед; он следовал за ними, а подле него шла девушка в длинном белом платье и держала факел; ее черные волосы спускались до талии. Прямая и гибкая, она словно скользила над землей. Слышался лишь шелковистый шорох и шелест высокой травы.
— Стой! — крикнул Джим.
Берег реки круто обрывался; снизу повеяло холодком; свет падал на темную воду у берега, пенившуюся без журчания. По обе стороны от них виднелись ряды домов под резко очерченными крышами.
— Приветствуйте от меня шерифа Али, пока я сам к нему не пришел, — сказал Джим.
Ни одна из трех голов не шевельнулась.
— Прыгай! — закричал он.
Три всплеска слились в один, взлетел сноп брызг, черные головы поплыли по воде и исчезли; слышался плеск и фырканье, постепенно затихавшее. Джим повернулся к девушке — безмолвному свидетелю. Сердце его вдруг словно расширилось в груди, и что-то сдавило горло. Вот почему, должно быть, он молчал так долго, и она, взглядом ответив на его взгляд, размахнулась и бросила в реку горящий факел. Огненная полоса, прорезав ночь, шипя, угасла, и тихий нежный звездный свет спустился на них.
Что он сказал, когда наконец вернулся к нему голос, — он мне не сообщил. Не думаю, чтобы он был очень красноречив. Было тихо, ночь облекла их в свое дыхание — одна из тех ночей, какие словно созданы для того, чтобы служить приютом нежности; есть моменты, когда душа как будто сбрасывает с себя свою темную оболочку, и молчание становится красноречивее слов. Про девушку он рассказал мне:
— Она немножко нервничала. Реакция… Должно быть, она очень устала… И… и… черт возьми… понимаете ли, она ко мне привязалась… Я тоже… не знал, конечно… и в голову мне не приходило.
Тут он вскочил и стал нервно шагать.
— Я… я глубоко ее люблю. Сильнее, чем могу выразить словами. Конечно, этого не расскажешь. Вы по-иному относитесь к своим поступкам. Когда ежедневно вам дают понять, что ваша жизнь абсолютно необходима другому человеку… Поразительно! Но подумайте только, какова была ее жизнь! Ужасно, не правда ли? И я нашел ее — словно вышел гулять и неожиданно наткнулся на человека, который тонет в темном глухом уголке. Она словно доверила себя мне… Я думаю, что в силах принять это доверие.
Я забыл упомянуть, что девушка незадолго до этого оставила нас вдвоем. Он ударил себя в грудь.
— Да! Я это чувствую, но я верю, что достоин принять свое счастье!
Он был наделен способностью находить особый смысл во всем, что с ним случалось. Так смотрел он на свою любовь; она была идиллична, немного торжественна. В другой раз он сказал мне:
— Я живу здесь всего два года и теперь не представляю себе, как мог бы я жить в другом месте. Одно воспоминание о том мире, который лежит за пределами этой страны, — пугает меня, так как, так как… — Он опустил глаза, кончиком ботинка разбивая кусок засохшей грязи: мы прогуливались по берегу реки. — Так как я не забыл, почему я сюда пришел. Еще не забыл!
Я старался на него не смотреть, но мне послышался короткий вздох. Некоторое время мы шли молча.
— Сказать правду, — начал он снова, — если можно забыть такую вещь, то я думаю, что имею право выбросить ее из своей головы. Спросите любого человека здесь… — голос его изменился, — Не странно ли, — продолжал он мягко, почти умоляюще, — не странно ли, что все эти люди, которые готовы для меня на все, никогда не смогут понять? Никогда! Если вы мне не верите, я не могу призвать их свидетелями. Почему-то тяжело об этом думать. Я глуп, не правда ли? Чего мне еще желать? Если вы их спросите, кто смел, честен, справедлив, кому готовы они доверить свою жизнь, — они назовут туана Джима. И, однако, они никогда не смогут узнать истинную правду.