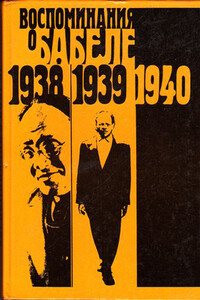Будто чьи-то невидимые могучие руки приковали Григория к столу. Он низко склонился над книгой — коптилка едва светила, резало глаза, но он этого не замечал. Словно сидел не в крохотной комнатушке, а там, в цирке, под ласковым итальянским небом и напряженно, с бьющимся сердцем следил за тем, что происходило на арене… Обнаженная, мускулистая фигура Спартака, отточенные, меткие удары, ослепительное солнце, необъятное человеческое море — ревущее, кричащее, безжалостное.
Григорий никак не мог понять, из-за чего ворчит, слезая с печи, хозяйка. Она же выговаривала ему:
— На тебя керосина не напасешься… Всю ночь коптилка горит…
Но Григорий ничего не слышал. Подошла, с укором повторила:
— Керосина, говорю, не напасешься.
Лишь теперь он вернулся в реальный мир, взглянул на женщину и улыбнулся. Обещал погасить и снова углубился в чтение. Перед ним проплывали все новые и новые картины. Больше всего волновала судьба Спартака. За ним, не колеблясь, он пошел бы даже на смерть.
Вдруг Григорий услышал гулкие удары в рельс сторожа на башне. Подсчитал. Два… три… четыре… пять… Неужели пять часов? Пора собираться на работу.
Сползла с печи хозяйка.
— Так ты, дурень, всю ночь просидел?
А он, счастливый, глядел на нее усталыми глазами.
— Сегодня суббота?
— Заморочил себе голову так, что и дня не помнишь, — буркнула она.
— Жаль, что не воскресенье… — тихо сказал он.
— Молиться надумал? Давно пора!
— Если б воскресенье, почитал бы еще… Поспал бы немного — и вновь за книгу. Никуда бы не пошел…
— А ты, часом, не спятил, хлопче? — вдруг спросила старуха.
— Спятил, — счастливо улыбнулся Григорий…
Петровский стал читать запоем. За «Спартаком» последовал «Овод», потом «Жерминаль» Эмиля Золя, «Пауки и мухи» Вильгельма Либкнехта. Однажды Иван Васильевич вручил ему небольшую брошюру «Положение рабочего класса в Англии» Фридриха Энгельса. «…Государству дела нет до того, что такое голод, — горек он или сладок, — оно бросает этих голодных людей в свои тюрьмы или ссылает в колонии для преступников, а когда оно выпускает их оттуда, то может с удовлетворением видеть достигнутый результат — людей, лишенных хлеба, оно превратило в людей, лишенных еще и нравственности», — писал Энгельс.
Читая брошюру, Григорий невольно сравнивал жизнь английских рабочих с нищенским бытом екатеринославских, с голодным прозябанием безработных, с жалким существованием инвалидов, покалеченных на заводе и выброшенных на улицу, с положением вдов и сирот…
«Если бы Энгельс побывал тут, на берегах Днепра… — думал Петровский, — и увидел бы Копыловские казармы на Орловской улице, где хуже скотины живут катали, у которых нет ни коек, ни воды! С зари до зари возят они тяжелую руду, а придя в казарму, больше похожую на грязный хлев, чем на человеческое жилье, измученные, немытые, прямо в одежде валятся на замызганный пол и забываются недолгим тяжелым сном, чтобы на рассвете снова бежать на работу…
А по воскресеньям немало заводских направляется в кабак.
Те же, кому хочется отдохнуть на природе, оказываются под наблюдением… Ни на работе, ни на гулянье не дают вздохнуть рабочему человеку, чтобы не думал он о своей доле, о своей жизни, не стал бы об этом говорить с другими. Пускай лучше пьет рабочий люд, только бы не думал…»
Вспомнил Григорий, как купил на базаре и нес домой брошюру по истории, как городовой не удержался, остановил его и посмотрел, что за книга. Увидев портрет царя, успокоился. Даже в чтении рабочий человек не свободен. За самую маленькую провинность платит штраф. Платит и молчит. И заливает свое горе сивухой.
Как тогда слушали листовку! И свое словцо подбрасывали! Значит, есть думающие рабочие, хоть их пока и немного. Надо больше и больше привлекать их в кружки, знакомить с книгами, больше говорить с ними, разъяснять их права. Об этом и о многом другом думал и говорил с Иваном Васильевичем Григорий Петровский.
14
Григорий вместе со Степаном ждал у себя на квартире Бабушкина и Лалаянца. Хозяйка с утра отправилась в село, предупредив, что там заночует. Наказала приглядеть за хатой и откинуть снег от двери. А перед тем до блеска начистила медный трехведерный самовар и водрузила его на табурет. Григорий, чувствуя себя хозяином, нащепал тонкие лучины, разыскал древесный уголь и раздул самовар. Радовался, что сможет попотчевать гостей свежим чаем. Степан, глядя на хлопоты друга, улыбнулся:

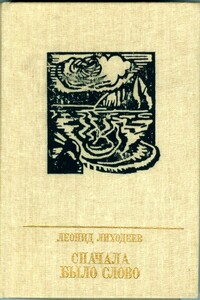



![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)