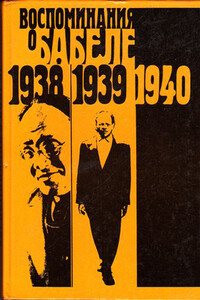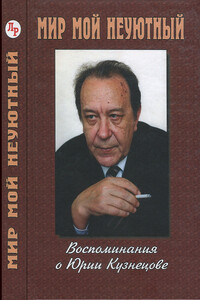Мастер вынул из бокового кармана кронциркуль, измерил деталь, одобрительно произнес:
— Ну что ж, неплохо.
Григорий понял: деталь выточена отлично.
После смены новичок тщательно, до блеска, вытер станок, привел в порядок рабочее место.
Григорию не терпелось поближе познакомиться с ним, но он не решался.
Новенький сам подошел к нему.
— Ты Григорий Петровский?
— Да.
— Слышал о тебе. Я живу на Чечелевке, пойдем вместе?
— Пойдемте, — обрадовался Петровский.
Вышли из цеха, миновали главную контору и направились к проходной. Когда завод остался далеко позади, незнакомец заговорил:
— Я давно тебя заприметил, да все недосуг было подойти. Сперва я тут не выдержал испытания, только мозоли на руках натер, и меня в цех не взяли. Пришлось поденно работать на заводском дворе. Там встретил двух приятелей-петербуржцев, они-то мне о тебе и рассказали: мол, здорово газету читал рабочим в обеденный перерыв. Потом эту газету начальство даже на свет смотрело, но ничего не нашло. Тебя по этому поводу не вызывали в контору?
Григорий сдержанно улыбнулся и на вопрос не ответил.
— Ты, я вижу, осторожен с новыми людьми. Это хорошо. Давай знакомиться: моя фамилия Бабушкин, звать — Иван Васильевич. Я из Петербурга.
— А я из Харькова, четыре года назад приехал сюда к брату искать работу. Брата уже нет… Умер молодым от чахотки и недоедания… Он работал на выгрузке угля, пылью дышал…
— Понятно, — вздохнул Бабушкин.
— Когда я поступил на Брянку, меня, тогда совсем зеленого парня, поразила обстановка, которая царила на заводе. Рабочие всего боялись: блеснут пуговицы начальства, а у них уже поджилки трясутся.
— Неужели никто не бунтовал?
— Случалось, что у кого-нибудь лопалось терпение. Однажды, помню, придирчивого мастера засунули в мешок из-под сажи, бросили на тачку и вывезли на помойку.
— А изменилось что-нибудь с тех пор?
— Кое-что изменилось. В кружках читаем запрещенные книги. По воскресеньям молодежь охотно собирается за городом, поет революционные и народные песни. Беда, что развернуться не дают… Постоянно вертятся рядом прихвостни администрации.
— Надо помочь молодежи, которая тянется к революционному движению, — сказал Бабушкин.
— Иной раз, — горячо продолжал Григорий, — видишь, что человек вроде бы начинает понимать тебя, со многим соглашается и порой такое спросит, что не знаешь, как ему растолковать. Тогда чувствуешь, что и самому надо больше знать.
— Я был в лучшем положении, чем ты: работал в Петербурге, учился в вечерней воскресной школе для рабочих. Там мы получали достаточно знаний. У нас были замечательные учителя, готовые на любые испытания, только бы донести до народа правду. Ты, верно, догадываешься, что я — поднадзорный, живу без паспорта, по проходному свидетельству.
Григорий Петровский с интересом слушал нового знакомого, чувство симпатии к нему росло с каждой минутой.
— Вот тут я живу. Может, зайдешь? — спросил Бабушкин, когда они дошли до Третьей Чечелевки.
— Не поздно?
— Заходи, заходи.
Бабушкин занимал небольшую темноватую, чисто прибранную комнату, окнами выходившую на веранду, увитую плющом. К дому нельзя было подойти, чтобы этого не заметили из комнаты. В углу стоял письменный стол со стопками книг, они занимали также всю этажерку.
— Сколько у вас книг, Иван Васильевич! — с восторгом воскликнул Григорий.
— Любишь читать?
— Все на книжку променяю!
— Много у нас, Гриша, впереди всяческих дел, а самое важное — создать библиотеку для рабочих.
Бабушкин подошел к этажерке, взял книгу в твердом переплете, протянул Григорию.
Юноша прочитал заглавие: «Спартак» Рафаэлло Джованьоли…
С книгой за пазухой Григорий направился домой. В окнах хаты уже темно: видно, хозяйка спит. Постучал. Заспанная женщина открыла ему дверь и что-то недовольно пробурчала.
Зажег коптилку, сел к столу. Решил просмотреть книгу, но с первых же страниц увлекся так, что забыл обо всем на свете.
Очутился в далекой Италии, в городе на десяти холмах — Риме… Увидел Большой цирк, собиравший около ста пятидесяти тысяч зрителей — мужчин и женщин разных сословий: ремесленников, вольноотпущенников, римских патрициев, шутов… «Шум огромной толпы, похожий на подземный гул вулкана; мелькание голов и рук, подобное яростному и грозному волнению бурного моря! Но все это может дать только отдаленное понятие о той великолепной картине, которую представлял Большой цирк».

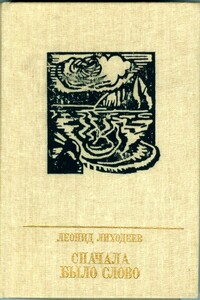



![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)