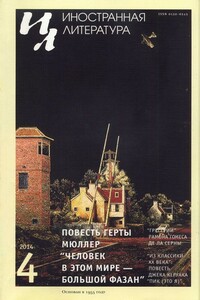Мы оставляли плитки на каминных полках, на старой скамье, стоявшей в одной из комнат, на краях наших столов, мы раскладывали их по всей церкви: на утоптанном земляном полу и в просторных чердачных залах; впрочем, эти помещения на зиму приходилось запирать, и камни покрывались пылью, гасли, — но для мха было достаточно совсем немного влаги, чтобы вновь ожить, он казался вечным. Чего мы ждали? Может быть, думали, что церковь, в которой давно не служат, не требует иного приношения, чем эти знаки, лишенные всякого смысла? Или, напротив, хотели, чтобы пустой храм и наши камни, соединившись, образовали новый, счастливый смысл? Пусть он потом и сгинет без следа, сотрется долгой чередой ночей и дней, пронзительными ветрами и дождями, что врываются в это жилище, возможно бывшее только миражем, пусть умрет среди мелькающих птиц, которые, должно быть, и сейчас беспрепятственно влетают внутрь сквозь разбитые окна и носятся из комнаты в комнату…
Однажды, в какой-то из наших коротких приездов, мы увидели на лестнице небольшую совку, как ни странно, почти нас не испугавшуюся. Посмотрев ей в глаза, мы решили, что она устроилась там совсем неплохо, и прошли к себе. Но, возвратившись спустя несколько дней, мы нашли на этом месте лишь истерзанное тельце да разбросанные вокруг перья.
Речь, которую мы искали там, где знаки только брезжили, речь, которая сквозит в пении петухов, придает яркость камням, — не ты ли только что родилась в этом заброшенном доме? И что в тебе прозвучало: упрек или, как всегда, новая надежда?
Ив Бонфуа. «Когда знак только брезжит»[71]
*
Шли последние дни весны. Воздух густел от запахов, бликов, щебетания ласточек. Ранним утром солнце зажигало ярко-красные гирлянды весенних облаков, но колокольный звон разливался уже ленивее, утрачивал радостную прозрачность. Розовая пена цветущих кустов превращалась в серо-зеленую накидку, на веточках появлялись колючие завязи неизвестных мне плодов. В полдень майская жара, стекая с черепичных крыш, смазывала цвета, на площадках под платанами отчетливее очерчивала границы между светом и тенью. Весь город — крепостная стена, башни, дома, сады — утопал в медовой бездне лета, словно в жидком янтаре. Вечерами, под огромным диском луны, стрекотали сверчки, попрятавшиеся в закоулки ночи.
Я уже месяц ждал подтверждения назначенной год назад встречи.
Письмо не приходило, а продолжающаяся шесть недель забастовка работников почты в департаменте Буш-дю-Рон отсекла от страны целый кусок между Авиньоном и Марселем. Каждое утро я садился на велосипед и отправлялся за семь километров на почту в Фурк (провансальский Фурко — от латинского furca, что значит «вилы», а также «разветвление реки») — маленький городок на другом берегу Большой Роны. Дорога, окаймленная канавами, где в воде отцветали последние болотные ирисы, бежала по следам бывшей римской дороги среди невозделанных полей охряного цвета, пересекала Малую Рону по мосту XIX века и, оставив с правой стороны несколько заросших бурьяном пустых строений из песчаника, через полсотни метров после указателя наконец спускалась в долину. В ветреные дни по склонам, поросшим миндальными деревцами и купами олив, прокатывались волны матового серебра.
Письма не было. Приближалось время возвращения на родину, и надежда увидеться с Поэтом с каждым днем таяла. Я пускался в обратный путь, толкая велосипед в гору под катящимся по небу лимонно-огненным шаром безжалостного солнца.
Как-то утром я застал в монастырской галерее двух рабочих. Ночью гроза расшатала шиферные плитки, крыша протекла, вода проникла в библиотеку. Рабочие разговаривали между собой на местном диалекте. Некоторые слова показались мне знакомыми, мелодия с ударением в конце фразы напомнила школьное чтение, письма Сенеки, речи Цицерона. Внезапная ассоциация заставила открыть лежащий рядом на столе оправленный в позолоченную кожу том — старое французское издание «Божественной комедии», оставленное накануне датским переводчиком Данте, бородатым гигантом Оле Мейером. В конце XXVI песни страдающая в чистилище душа несчастного трубадура Арнаута (Арнальдо, Арно) Даниэля