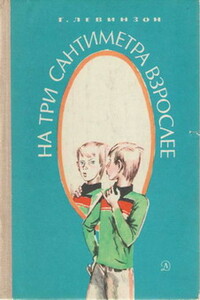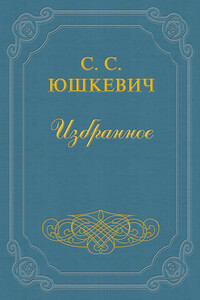Я нисколько не удивился, когда на школьном дворе выяснилось, что меня ожидает новая неприятность: за ручку с папой стоял тот самый малыш, который вчера пялился на меня исподлобья, после того как я отпустил ему леща. У папы его тоже привычка смотреть исподлобья. Плюгавец, мозглячок представляю, как ему доставалось в школе. Его поколачивали, а ответ держать придется мне. Но не убегать же было от этого замухрышки. Я не приостановился даже, хотя, признаться, разволновался так, будто меня ожидали очень важные события.
— Не думай, — сказал папа, нежно поглаживая сынулину головку, — что мы пойдем жаловаться на тебя учителям, чтоб они тебе мораль прочли. Не надейся: у нас есть средство получше.
Стало понятно: человек отлично разбирается в жизни. Из окна первого этажа я понаблюдал за ним: он вел разговор с тремя десятиклассниками, показывал им рукой на своего сына, чтоб они убедились, какой его сын кроха, и, конечно, доказывал, что общественность таких должна взять под защиту. Десятиклассники кивали.
На втором этаже я увидел еще одного обиженного, того самого, который вчера убежал плакать в класс. Он стоял у дверей учительской рядом со своей гневной мамой и мамой Хиггинса. Этого обиженного по головке гладила мама Хиггинса.
— Дербервиль, — сказала она, — я вижу, у тебя ничего не получается. Ты сделал то, что я тебе советовала?
Я ответил, что сделал, но не помогло.
— Ладно, — сказала мама Хиггинса, — придется нам приналечь. Я знаю средство получше. Иди пока в класс.
На третий этаж я поднимался с нехорошими предчувствиями. Здесь, в кабинете русской литературы, минут через пять меня отыскала моя давняя недоброжелательница Калерия Максимовна, наша географичка. Дворничиха ей так азартно показала на меня пальцем, как будто они охотились с ружьем. Калерия кивнула: я так и думала. Она предложила мне спуститься в математический кабинет. Ее нисколько не возмущало, что дворничиха обзывала меня словами, самое ласковое из которых было «бандит».
В математическом кабинете я опять встретился с мамой Хиггинса. За пять минут второй этаж приготовил мне новый сюрприз: маму Женечки Плотицына. В присутствии мамы Хиггинса дворничиха начала повторять мне то, что уже говорила на лестнице, только на этот раз голос у нее погромче был. Маме Хиггинса пришлось ей сказать:
— Вы спокойней, пожалуйста.
Но дворничиха и не подумала утихомириться. Такой неумелый жалобщик. Я с ней расправился в два счета.
— Вы сами видите, что это за человек! — сказал я маме Хиггинса. — Она мне проходу не дает.
Маме Хиггинса пришлось встать между нами, потому что руки дворничихи уж очень близко замелькали от моего лица.
— Вы все видите сами, — сказал я маме Хиггинса и спрятался за ее спиной, как будто уж совсем напугался.
— Он прикидывается, — сказала Калерия Максимовна. — Обратите внимание, какие у него глаза: плутишка.
С Калерией Максимовной мы давно не в ладах. Она меня невзлюбила, наговаривает всем на меня, объясняет, какой я невоспитанный, какой плутишка. Когда меня вызывают в учительскую для разговора, Калерия обязательно вставляет свои замечания. И как же она довольна, что все подтверждается: я качусь и неизвестно, до чего докачусь.
Мама Хиггинса обернулась и поймала меня за руку:
— Ну, будет! Зачем ты человека изводишь?
Она усадила меня за парту, потом и дворничихе сказала «садитесь». Дворничиха сразу перестала шуметь, засмущалась, стало заметно, что у нее усталый вид. Только молча она сидеть не умела: она стала жаловаться на своего мужа, который пьет пиво, ходит на футбол, в домино играет, а об их больной дочери совсем не думает, а она одна всего не может, она и так на двух работах: дворником и билеты на автобусной станции продает — вот какая жизнь. А тут еще ящики с мусором переворачивают! В общем, мужу дворничихи досталось больше, чем мне. Под конец только она мне крикнула:
— Ты моих ящиков не трожь, по-хорошему тебе говорю!
— Я только один раз перевернул, — сказал я. — Не верите? Честно!
Дворничиха всхлипнула на эти мои слова и ушла.
— Кстати, спросите-ка у него, зачем ему два дневника, — сказала Калерия маме Хиггинса и тоже ушла: не интересно, видно, стало.