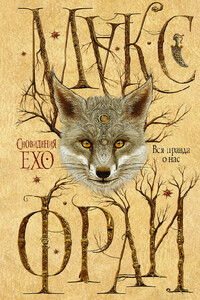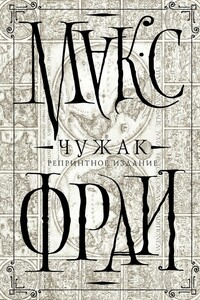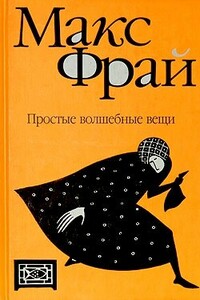За Другом по пятам на запахи сервелата, сыра и икры, растрезвоненные ветром по всей округе, почти не касаясь земли, скользит вороватый и пугливый Дымок. Однажды бабушка застукала его на кухонном столе при попытке украсть кусок индейки. Возмутившись, она хлопнула в ладоши, плеснула в убегающего вора колодезной водой из кружки и обозвала шпаной.
Сейчас коты неслышно возникли возле стола, как две тени. Друг бродит вокруг, встает на задние лапы, с надеждой заглядывает Нине в глаза своими добрыми и хитрющими глазищами. Потом выпускает когти и легонько вонзает их в колено, а сам искоса поглядывает в тарелку Антона.
Дымок умывается в сторонке с напускным безразличием, при этом украдкой старается ни на минуту не выпускать бабушку из поля зрения. Друг запрыгивает на качалку, залезают Нине на колени, утыкается влажным и теплым носом ей в щеку. Вскоре бабушке это надоедает: соседские коты и любые другие коты быстро выводят ее из себя. Бабушка хлопает в ладоши, шикает и, торжествуя, поглядывает вслед двум серым попрошайкам, которые убегают, не получив ни крошки с ее праздничного стола.
Прогнав котов и восстановив в своем маленьком мире порядок, бабушка неторопливо прихлебывает и по-купечески протягивает чай через кусочек сахара. Нина и Антон перемигиваются, хрустят вафельным тортом и вырывают друг у друга журнал, отчего расшатанная качалка начинает скрипеть. Это выводит бабушку из себя, она командует прекратить. В глазах у нее уже зажглись нетерпеливые задорные искорки, предвещающие какую-то историю. Вот, отодвинув чашку, уютно нахохлившись, бабушка оперлась на локти и неторопливо начала. Иногда выцветший бледно-голубой тент качалки бомбардируют зеленые недозрелые яблоки и рано пожелтелые листики старой антоновки. Одно яблоко со стуком падает на самую середину стола, заставляя всех вздрогнуть.
Бабушкины истории Нина слышала сотню раз, с детства. Она знает наизусть, что в 43-м году бабушка окончила медицинское училище и тут же была отправлена в госпиталь, операционной сестрой. Госпиталь располагался на окраине молдавского городка, в здании школы. В классах истории, математики и географии, где совсем недавно по доске скрипел мел и на переменах между партами бегали первоклашки, теперь стояли рядами койки, на койках стонали раненые. В соседнем классе могла находиться операционная. Или помещение, где стерилизовали инструменты. Раненых привозили с фронта в маленьких, пыхтящих автобусах, оборудованных под санитарные машины. В коридорах школы, озаренных солнцем сквозь окна с белыми бумажными крестами, пахло хлоркой, ментолом и карболкой. А за окнами весной цвела в садах черемуха, вишни, черешни. И ветер осыпал подоконники белыми лепестками. Там и тут: на лестницах, в кабинетах и классах школы-госпиталя сверкали халатики медсестер. Они бегали по этажам с капельницами, градусниками, шприцами и что-то всегда позвякивало, бренчало у них в руках. Медикаментов, даже самых простых и необходимых, не хватало. Ближе к концу войны прижился негласный метод лечения: ампутировав конечность, рану оставляли загнивать, чтобы черви, разводившиеся под бинтами, помогли культе зарубцеваться.
От рассказов о госпитале Нине всегда делается не по себе. Сразу представляются стоны, запах крови и гноя, крики, землистые лица раненых, духота, суета, звук рвущегося бинта и холодный, устрашающий перестук инструментов в операционной. А еще спинка койки с поникшей на ней гимнастеркой и костыль, прислоненный к стене. Бабушка же, вспоминая госпиталь, как будто начинает мерцать, а ее маленькие мутноватые глаза становятся ясными, ярко-голубыми, в цвет неба.
– Нам, медсестрам и санитарочкам, было лет по девятнадцать… И все, как на подбор: деревенские, румяные, кровь с молоком. Не то, что вы сейчас, – гордо, с вызовом уточняет она. – Мы были невысокие, пышногрудые, с длинными толстыми косами. Косметики тогда не было, а у нас и так все было свое: и румянец, и черные брови, и ресницы… Над нами истребители летали, да только из-за этого назло жить хотелось. Целый день бегали, ставили капельницы, кололи, перевязывали, промывали раны. И ничего, не уставали.