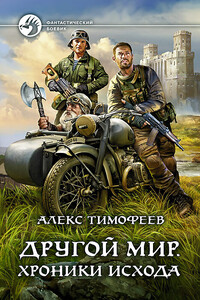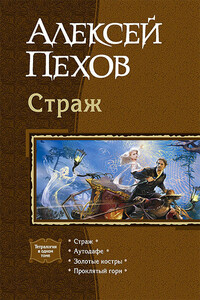Лишь с четвертой попытки старому пеликану удалось едва-едва приподнять темный клинок над землей. Он потащил его наверх, то и дело роняя.
Мы все трое понимали, что, если повезет, сил его сущности хватит лишь для того, чтобы поднять эту железку наверх, но вряд ли у него получится воткнуть темный клинок в дерево так, чтобы острие вошло хотя бы на четверть дюйма.
Я смотрел, как мой друг уходит, и растил на ладони знак. Проповедник знал, каким способом светлая душа может обрести силу.
Ангелы продолжали бой на засыпанной солью арене, в чернильном мраке ночи и стелющейся по земле серной дымки. Мне было больно смотреть на те всполохи света, что вспыхивали вокруг них. На то, как пузырилась поверхность, по которой они ступали. На воздух, такой густой и плотный, что он мог бы остановить даже пушечное ядро.
Хотелось уползти прочь. Подальше от той стихии, материи, из которой изначально создавался наш мир. Растревоженная, она не щадила ничего, поглотив тела погибших клириков.
Любое движение причиняло боль. Я сел, опираясь на подставленную спину Гертруды. Плачущей, понимающей, что должно произойти. Проповедник спотыкался, ронял кинжал, но продвигался по этой бесконечной лестнице, ведущей в суровое, облачное небо.
Когда он оказался перед деревом, то махнул свободной, левой рукой. Ему пришлось повторить свой жест, прежде чем я решился.
Знак сорвался с моей ладони и полетел в него. Полетел так же, как это было в Кайзервальде, вот только теперь у старого пеликана больше не возникало желания отойти в сторону. Я смотрел, как два полукруга поднимаются вверх, как стоит щуплая фигурка, как они сливаются друг с другом.
Грохот на фоне разворачивающегося сражения земных ангелов был едва слышен. Мой знак, та сила, что была заключена в нем, на краткое мгновение передалась светлой душе, дав ей возможность полностью контролировать предметы. А затем Проповедник отправился туда, куда страшился уйти так много лет…
Шел дождь, пахнущий клевером и медом. Он смывал соль и пепел, очищая обугленную, кое-где остекленевшую землю. Тучи стремительно рассеивались, сквозь них пучками теплых копий били солнечные лучи, падая на развалины старого цирка, и гром грохотал сонно и благодушно, довольный исходом этого дня. В луже отражалась радуга, яркая и горбатая.
Тело темного кузнеца, горло которого оказалось рассечено кривым, острым, точно серп, клинком, исчезло в золотом свете, оставив после себя лишь молот, изрядно запачканный грязью, брошенный и никому не нужный.
Дерево стремительно засыхало, уменьшаясь в размерах. Все листья с него уже облетели, и теперь ветви с треском отрывались от ствола, падали, обращались в дым, подхватываемый ветром.
Гертруда плакала, удерживая на коленях большую голову каштановолосого ангела, плечо и грудь которого были смяты оружием противника. Он смотрел вверх, возможно, на только ему видимые звезды, и его ярко-синие глаза были спокойны. Безумие покинуло их.
Через несколько минут с ним случилось то же самое, что с Рудольфом и Ивойей. Остался лишь золотой свет на ладонях Геры.
А затем погас и он.
По полю гулял ветер, колыхал рожь, заставлял ее шептать слова, которых я никогда не смогу понять. Пугало, в драном солдатском мундире времен короля Георга, в нелепой соломенной шляпе, висело на палке, расставив руки, и приветствовало ворон зловещей, до боли знакомой ухмылочкой.
Оно было другим. Нелепым. Неказистым.
Пустым.
Жалкая оболочка гусеницы, в которую никогда не вернется бабочка.
Прошло два года с тех пор, как мы познакомились, и я, порой просыпаясь ночами, не верил, что все случившееся происходило на самом деле. Затем ловил себя на боли в отсутствующем пальце и понимал, что события последних месяцев – это правда.
Гертруда стояла рядом, опираясь на плетень, и тоже смотрела на пугало. Ветер игриво растрепал ее белые волосы, она немного щурила лучистые глаза и что-то обдумывала, хмурясь.
Мы не виделись с ней почти две недели. С того самого момента, когда все закончилось, и встретились только сейчас, на пустынном тракте, чтобы дальше идти уже только вместе.
– Думаешь, он жив? – наконец задала она мучивший ее вопрос.