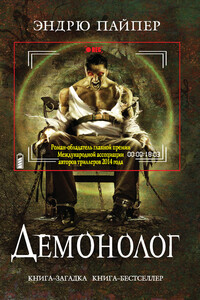— Почему я был с тобой? ПОСЛЕ этого? — спросил он. — Как я мог оказаться там, если я еще здесь? И все еще жив?
— Не знаю. Может, я забрал тебя с собой. Вещи, чувства, люди, души — может, они могут перемещаться туда и обратно свободнее, чем нам кажется.
— И ты не видел маму? Почему я передал тебе ее часы, а не она?
— Полагаю, она не могла. Вероятно, это должен был сделать именно ты, потому что она тебя об этом попросила.
Папа кивнул. Потом у него на лице появилось выражение, будто ему достался несвежий завтрак.
— Иногда я вижу твою сестру, — сказал он.
— Я тоже.
— Ей одиноко… Там, где она теперь.
Он коснулся моей щеки. Пальцы у отца были холодными.
— Не дай ей… заставить тебя пустить свою жизнь под откос, — сказал он.
— Как? — хотел я спросить. — Куда я могу уехать, чтобы она не последовала за мной?
Но я ничего не сказал. А отец опустил руку, понимая, что у него нет ответа на вопрос, который не был задан.
Папа умер за своим столом в офисе, засидевшись допоздна на работе. Сердечный приступ. Ему шел пятьдесят третий год. В семье Орчард все мужчины имели проблемы с сердцем. И почти все уходили внезапно.
Его обнаружила одна из уборщиц, работавших ночью на сорок втором этаже центра «Ренессанс». Он сидел, положив голову на скрещенные руки, рядом с аккуратно сложенной кипой дел. Вполне себе обычная картина для представителя «белых воротничков», задержавшегося допоздна и решившего немного вздремнуть. Женщина могла бы просто закрыть дверь и продолжить уборку, если бы не фоторамка, лежавшая посередине ковра изображением вниз. Уборщица вошла в кабинет и подняла фото, собираясь вернуть на место. И тут она увидела, что стекло разбито так, как ни за что не могло бы разбиться, если бы рамка просто упала со стола.
Тогда она подошла к отцу и потрогала его лоб. Он уже был холодным.
Позвонив «911», уборщица вынула фотографию из рамки и положила ее на стол. Она предположила, что умерший сам швырнул фотографию на пол. Кто знает, что заставило его так поступить — стресс, домашние проблемы? Минута гнева и слабости, о которой, возможно, уже сейчас жалеет его душа там, где она теперь находится.
Однако женщина ошибалась на этот счет. И следователь тоже. Как, впрочем, и любой, кто думал, что папа в офисе был один в минуту смерти.
На фото счастливый папа держал на руках двух новорожденных младенцев, двух ангелочков, завернутых одного в голубенькое одеяльце, а другого — в розовое. Но не папа в ярости швырнул на пол фото, где он держал меня и Эш. Это сделал не он.
Это сделала моя сестра.
У меня есть талант умирать. Похоже, это единственное, что я умею делать не так, как другие, кто умирает раз и навсегда, я повторяю это с завидной регулярностью, поскольку пожар в доме на Альфред–стрит был не первым случаем, когда я умер и потом ожил. Первый раз это случилось в самом начале. В день, когда мы с Эш родились.
Роды были тяжелыми. Тяжелыми в старом смысле этого слова: они едва не стоили жизни нашей матери. А мы с Эш в первые несколько минут после нашего появления на свет чуть не погибли. Пуповина захлестнула горло моей сестры и мое, и мы родились синие и неподвижные. Мертворожденные.
Мама рассказывала папе, а позже, в изрядном подпитии, и мне, как она испугалась при одной мысли о том, что может потерять обоих детей, и сделала то, на что вряд ли осмелилась бы в церкви. Она начала молиться. Воззвала к Богу, дьяволу, любой силе, которая могла услышать ее.
«Спаси моих детей и возьми меня. Я — твоя»
Доктора и нянечки вертелись вокруг нее, возились с новыми аппаратами в слабой надежде оживить нас. А мы с Эшли лежали за ширмами по обе стороны от матери, обклеенные разными датчиками и прочей ерундой. Мама ничего не слышала. Она чувствовала, как шевелятся ее губы, но слова вылетали, как теплые мыльные пузыри, и никто из врачей, перемещавшихся по родильной палате, словно белые облака, даже не остановился, чтобы посмотреть в ее сторону. Вместо новорожденных малышей, скрытых от нее за занавесями, мама могла видеть лишь две толстые линии на двух мониторах.
Именно тогда она добавила в свою молитву нечто новое.