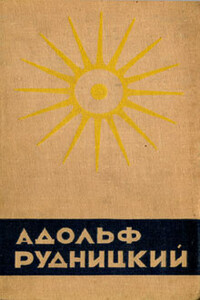— Я тебе — не все, — возвышает голос дед, — я крестил тебя и значит есть твой крестный отец. Чуешь — отец! У меня сердце изболелось, глядючи на тебя, а ты — "все"…
— Не обижайся, Федот Никитич, это я с горя.
— "С горя, с горя"! А может, горя-то и нет? Ведь толковал я с твоим. Крепко толковал. Божится: "Ничо, — говорит, — не было у меня с Нюркой. Хоть режь — не было!" Ить всё — догадки только твои. Может, грех великий на душу берёшь — семью рушишь. Жили-то как — не нарадоваться, ровно голубки.
Эти дедовы слова обрывают в Клавдиной душе то, на чём держалась вся её гордая видимость. Она притуляет голову к дедовой груди, и его сивая, не утратившая с годами пышноты борода впитывает горючие бабьи слёзы. Федот гладит вздрагивающие плечи, обронённую на его грудь голову.
— Ну будя, будя. Поплакала — это хорошо, полегчает теперя. Не терзай ты себя понапрасну. Жизнь — она большая да не гладкая. Всяко может быть. Надо и прощать уметь…
Клавдя вмиг отрывается от деда, даже отталкивается слегка.
— Ах, прощать! Не умею прощать и учиться не собираюсь!
— Ну вот, снова ты за своё. Ить никто ничо в точности не знает. Вот что, схожу-ка я к нему сёдни вечером. Да тряхану как следоват быть. Пущай дитём своим клянётся!
— Ой, худо мне, дед Федот, уж так-то худо! Надвое душа разрывается. Пусть уж горькая, да правда. А так — и пововсе невыносимо.
— Всё, сказал — сёдни пойду, я из него вытрясу правду!
— Нету его сегодня, в городе он.
— Так, значит, завтрева. А ты, Клавдя, не терзай себя понапрасну. Завтрева всё и прояснит.
Клавдя запирает в себе слёзы, вытирает глаза рукавом кофты и уходит. А дед Федот долго ещё размышляет, как негладка у человека жизненная дорога и как много на ней пней да колдобин.
Настроение вконец испортилось. Ладно ещё, вскорости вынырнули из ворот напротив Нинка с Муськой. Это его всегдашние подружки. Что-то сегодня припозднились. Как всегда — за руки. Одна чуть впереди, другая позади тащится. Нинка сама-то от горшка два верша, а блюдёт сестру, нянькается с малой. Она подсаживает Муську на завалинку, взбирается сама и выпаливает деду главную новость:
— А нам маманька сеструху купила!
— На базаре, што ли, сторговала? — сердится Федот. — Ишь ты: "купила"! У нас уж, слава Богу, давно людями не торгуют. Вещь это, што ли, или овечка? Родила ваша маманька вам сеструху, как все бабы рожают.
Он ещё немного ворчит, а потом вздыхает:
— Вот наказание — снова, значит, девка! Ну, опять задурит ваш отец. Глупый он мужик, прости господи! Ну при чём тут баба, какой с неё в таком деле спрос? Баба — земля: что в неё посеял, то и взрастёт. Скажите-ка своему отцу, мол дед Федот велел придти.
Девчонки, видать, только что с реки. Накупались до пупырышек. Дед распахивает свою шубейку, и они лезут под неё, шебуршатся там потихоньку, жарко дышат ему в бок и вскорости вылазят наружу красные, разопревшие. Муська, как обычно, берётся за Федотову бороду. Долго роется в её чащобе, прокладывая в ней тропинки-дорожки. В конце концов вместе с Нинкой заплетает во множество косичек. Дед покорно терпит, а девчонки повизгивают от восторга. Но выходит их старшая сестра Ольга, зовёт Нинку с Муськой есть, и Федот снова остаётся один.
Пора и ему обедать, и он идёт в дом. Достаёт из огромного, как шкаф, холодильника кастрюлю с борщом и решает его не разогревать. Печь топить в жару из-за миски супа несуразно, а электроплитки он не признаёт: весь вкус убивает, как бы там ни доказывали, будто электричество в чашку не попадает. А и холодный борщ тоже хорош. И рыба жареная — что надо. Знатных ершей Василий вчера удочкой натаскал.
Дед Федот выносит в консервной банке, для этого приспособленной, борща Пирату и большую кость. А сам — на завалинку дремать. Солнце в это время на самой высоте, прогревает голову в сплюснутой шапчонке и ноги сквозь рыжие валенки. Дед смело распахивает шубейку, не боясь просквозить грудь, занавешенную бородой. Он не засыпает окончательно. А всё же отдаляется от этого дня. Все звуки доносятся до него как сквозь ватное одеяло. Однако он всё видит и чует.
В такое время всплывают в памяти дни, прожитые так давно, что, уже не ясно, в его жизни они были или в чьей-то чужой. То видится старуха его Настасья, лицо которой он успел позабыть, — видится молодой и красивой. То снится сын его старший — тоже Федот, убитый в войну. То вдруг себя увидит таким юным, сильным нетронутым годами, что не верится: он ли это. Федот уже не помнит, была ли у него тогда борода, и если была, то какого цвета. Не смолоду же она у него седая!