В строфе XLVIII речь идет о Петербурге – однозначно, по крайней мере включительно по 12-й стих: созданные в середине 18 столетия Нарышкиными рожковые оркестры крепостных существовали только там, причем до 1812 года. Возникает иллюзия того, что последние два стиха: «Но слаще, средь ночных забав, Напев Торкватовых октав!» тоже относятся к Петербургу. Основываясь на содержании письма от 11 мая 1831 года Михаила Погодина Степану Шевыреву, который перевел несколько октав этого произведения, В. Набоков (т. 2, с. 184) отмечает, что Пушкин не любил творчество Торквато Тассо. С. М. Бонди так прокомментировал это место: «Торкватовы октавы – стихи из поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим», написанной особой строфой, состоящей из восьми стихов […] Поэма была широко известна в Италии: строфы из нее пели венецианские гондольеры (лодочники)». Таким образом, процитированные стихи из XLVIII строфы, не разрушая впечатления читателя о том, что относятся к Петербургу, все же вызывают прямую ассоциацию с Венецией, а также цепь вопросов: каким образом на Неве могла звучать песня гондольеров; Пушкин не любил Тассо, а песни этого автора звучали «сладко» – если не для него, то, значит, для рассказчика романа? Выходит, Онегин либо сам бывал в Венеции, либо имеет какое-то отношение к творчеству Тассо, и теперь, готовя свои мемуары, сравнивает мысленно свои впечатления от роговой музыки на берегах Невы и песен гондольеров.
Недоумение в отношении звучания песен гондольеров на Неве закрепляется содержанием следующей, XLIX-й строфы:
Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.
Композиция этой строфы преднамеренно усложнена; причем как у Пушкина, так и у Онегина для этого были свои, хотя и диаметрально противоположные причины. Как можно видеть, Пушкин стремился к тому, чтобы у читателя сложилось интуитивное впечатление, что «автор» – Онегин переживает свои впечатления о былом пребывании в Венеции. По крайней мере два переводчика романа на английский язык – Дойч и Спэлдинг – передали именно этот смысл в своих версиях перевода{30}. Однако при более внимательном чтении становится очевидным, что непосредственно о пребывании Онегина в Венеции здесь не говорится. Здесь Онегиным все переведено в будущее время, и создается впечатление, что все это – только в его мечтах, вызванных Байроном, а не в воспоминаниях. Только вот два «прокола». Во-первых, из ремарок рассказчика четко видно, что он не любит Байрона, что поэзия этого поэта вряд ли могла вдохновить его на такие мечтания. Во-вторых, слова «И, вдохновенья снова полный…». Почему «снова»? Значит, был уже там? Да, он понял, что проговорился, что по такой яркой детали биографии его, клеветника-анонима, опознают современники, и снова все переводит в будущее время («услышу»). Он заметает следы, делает вид, что эти яркие венецианские впечатления – всего лишь от прочитанного у Байрона…
Нет, обрели его уста язык Петрарки, пусть не лукавит. Вон ведь, попав «с корабля на бал», все еще мыслит категориями венецианских метафор («С Ниной Воронскою Сей Клеопатрою Невы»): одно из исторических названий Венеции – «Повелительница Адриатики». И даже сидя через несколько лет в своей деревне и готовя свой пасквиль на Пушкина и Баратынского, все никак не может отделаться от итальянских словечек, привезенных оттуда, из Венеции («И far niente мой закон» – 1-LV, Е sempre bene – 8-XXXV – из лирической фабулы, то есть, из временного плана, в котором он пишет воспоминания; Benedetta, Idol mio – 8-XXXVIII – вон как восьмая глава запестрела итальянскими словами, причем последние два случая – уже из эпической фабулы, эти слова Онегин только что привез оттуда и мурлычет их перед камином). А эпиграф (из Петрарки на итальянском языке) к шестой главе кто поставил, Пушкин, что ли? А стих из «Божественной комедии» кто перевел только наполовину, разве не этот же «автор наш»? Тот самый, что писал: «Мы все учились понемногу»? Тот, что кроме французского так ничего в молодости и не одолел? – сам ведь дал себе характеристику, был уверен, что мы его не узнаем. Тот Онегин, что «Цицерона не читал» («А над Вергилием зевал», «А Цицерона проклинал»)? Откуда же тогда при таком образовании и нелюбви к римской классике вдруг прорезался итальянский, причем даже на бытовой почве?

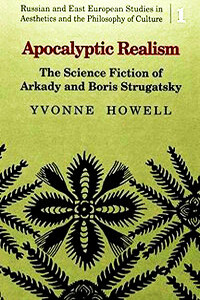
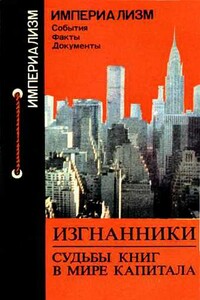
![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)