В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна (3-V).
То есть, в обоих случаях он мыслит одними оценочными категориями, и этот факт не только еще раз подтверждает идентичность рассказчика и Онегина, но и помогает датировать (в рамках фабулы сказа) появление дневниковых записей, совпадающее по времени с первым визитом к Лариным (если учесть то обстоятельство, что психика «автора» заметно меняется во времени, и что у Пушкина нет ничего случайного; тем не менее такая датировка будет носить чисто условный, фабульный характер). Иными словами, впечатления о путешествии, начатом не позднее 1805 года, заносятся Онегиным в дневник примерно во второй половине 1808 года – во всяком случае, в промежуток времени между приездом в имение и дуэлью.
«Но если альбом был бы включен в роман, Онегин выступал бы здесь как поэт, и какой поэт!», – писал Б. С. Мейлах{29}. Да, Онегин действительно поэт, и это видно не только из содержания «Альбома». Фактически, этот «Альбом» включен в роман – и не только в виде отрывков из «Путешествия»; весь сказ романа – это фактически дневник Онегина, записи которого он превратил в мемуары, придав им форму романа. То, что не вошло из «Альбома» в мемуары, частично издано в виде «Путешествий», частично отброшено Пушкиным как «издателем» творчества Онегина. В число неизданного попала и «X-я глава»; возможно, это часть более поздних дневниковых записей; возможно, самостоятельный трактат Онегина, его размышления о прожитом. Но, во всяком случае, не часть его повествования в рамках того, что принято считать романом – она слишком не стыкуется с фабулой его сказа.
У Пушкина было несколько веских причин чисто художественного характера для отказа от первоначального замысла:
а) не следует забывать, что повествование в романе ведется самим Онегиным. Включение им содержания собственного дневника в текст своих мемуаров противоречило его замыслу, продекларированному еще в посвящении Татьяне: эти мемуары адресованы ей, единственному читателю, который должен был быть посвящен в его секрет. И, если в фабулу седьмой главы ввести эпизод с чтением дневника, то с точки зрения Онегина как «автора» романа просто нелогично снова приводить ей его содержание;
б) Онегин пытается скрыть, что в мемуарах упомянуто более чем одно его путешествие (первая глава романа): первое, по России, завершившееся в Одессе до начала описываемых событий; второе – в Италию, которое он совершил после убийства Ленского и откуда прибыл в Петербург «с корабля на бал»; третье, в Африку – уже после «официального» завершения действия романа – после участия в Отечественной войне 1812 г., в движении декабристов и после «заточения», когда время и события несколько притупили его пламенное чувство к Татьяне (о том, что оно несколько угасло, Онегин не раз повторяет в «лирических отступлениях»). Навязчиво муссируемая им перед Татьяной тема «ножек» – оттуда, из Италии и Африки; здесь уже не Пушкин мистифицирует читателя, а Онегин мстит Татьяне за былой отказ, дразня ее своими заморскими похождениями;
в) с точки зрения структуры, мемуары Онегина (фабула сказа) уже являются «романом в романе», поэтому публикация внутри одних мемуаров других, каковыми по сути является содержание дневника, вряд ли воспринималось бы как высокохудожественный прием, тем более так открыто поданный. К тому же, задача, которую преследовал Пушкин, решена им более элегантным путем, причем без каких-либо информативных потерь: текст «Путешествий» все-таки, вопреки воле «автора», официально опубликован его «издателем», а недостающее в них этическое содержание восполнено лирическими отступлениями в основном тексте романа, в особенности в первой главе. Кроме этого, с точки зрения архитектоники всего произведения, текст «Дневника» в полном объеме, будь он введен в фабулу седьмой главы, занимал бы в ней слишком много места и выглядел бы как инородное тело. Однако в случае помещения «Путешествий» в виде дневника отдельной, восьмой главой Пушкину пришлось бы в корне изменить композицию седьмой главы, завершив ее описанием посещения Татьяной кабинета Онегина – в противном случае не была бы достигнута логическая увязка «Путешествий» с фабулой седьмой главы. То есть, «восьмая глава», фабула которой датирована периодом до основного повествования, воспринималась бы как «инородное тело» уже в рамках всего произведения; в таком случае спасти положение могло только одно: дать в «восьмой главе» описание не первого, а второго путешествия Онегина (в Италию), датировка которого вписывается в последовательность событий основной фабулы романа. Но, как видно из содержания уже первой главы, это не входило в замысел как самого Онегина, пытающегося скрыть от читателя такую броскую деталь своей биографии, так и Пушкина, который уже на первой стадии работы над романом ввел для осуществления своего замысла достаточно деталей этого путешествия, причем достигнуто это более эффективными художественными средствами;
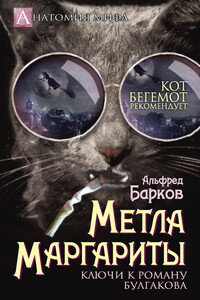



![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)