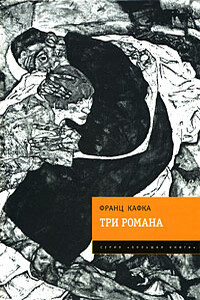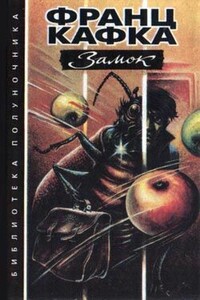Процесс - страница 5
В углу комнаты стояли трое молодых людей и рассматривали фотографии фрейлейн Бюрстнер, воткнутые в висевшую на стене рогожку. На шпингалете открытого окна висела белая блузка. Из противолежащего окна вновь свешивались те же старик и старуха, но общество там увеличилось: за их спинами, возвышаясь над ними горой, стоял мужчина в распахнутой на груди рубахе, теребя и пощипывая рыжеватую бородку.
— Йозеф К.? — спросил надзиратель, возможно, лишь для того, чтобы перевести рассеянный взгляд К. на себя.
К. кивнул.
— Для вас, очевидно, события сегодняшнего утра были большой неожиданностью? — спросил надзиратель и при этом передвинул обеими руками несколько предметов, которые лежали на ночном столике — свечу, спички, книгу и подушечку с иголками, — словно как раз эти вещи ему требовались для дознания.
— Конечно, — сказал К., и его охватило чувство облегчения: наконец-то напротив него сидит разумный человек, с которым он может обсудить этот казус. — Конечно, это для меня была неожиданность, но отнюдь не большая.
— Не большая неожиданность? — переспросил надзиратель и переставил теперь свечу в центр столика, расположив остальные предметы вокруг нее.
— Вы, возможно, не так меня поняли, — поспешил заметить К. — Я имею в виду, — тут он остановился и осмотрелся по сторонам в поисках какого-нибудь стула. — Я могу все-таки сесть? — спросил он.
— Это не обязательно, — ответил надзиратель.
— Я имею в виду, — продолжил теперь К., не затягивая больше паузы, — что это была для меня, конечно, большая неожиданность, но когда ты уже прожил на этом свете тридцать лет и всего должен был добиваться сам, как это пришлось мне, то это закаляет, и ты перестаешь относиться к неожиданностям слишком всерьез. К сегодняшним — в особенности.[2]
— Почему к сегодняшним в особенности?
— Я не хочу сказать, что я смотрю на все это как на шутку, для шутки предпринятые меры, мне кажется, слишком широки. В ней тогда должны были бы участвовать все здешние жильцы — да и все вы, это выходило бы за рамки невинной шутки. То есть я не хочу сказать, что это какая-то шутка.
— Совершенно справедливо, — сказал надзиратель и проверил, сколько в коробке спичек.
— Но, с другой стороны, — продолжал К., обращаясь при этом ко всем присутствующим и желая даже, чтобы и те трое у фотографий обернулись к нему, — но, с другой стороны, это дело не может иметь и какой-то большой важности. Я вывожу это из того, что я обвинен, но не могу доискаться даже малейшей провинности, в которой меня кто-то мог бы обвинить. Но и это второстепенно, главный же вопрос: кто меня обвиняет? Какие органы ведут этот процесс? Вы — служащие? Ни одного человека в форме, если только вашу одежду, — тут он повернулся к Францу, — не считать формой, но это ведь скорее какой-то костюм туриста. Я настаиваю на внесении ясности в эти вопросы, и я убежден, что после такого выяснения мы сможем сердечнейшим образом распрощаться друг с другом.
Надзиратель со стуком опустил спичечный коробок на стол.
— Вы пребываете в глубоком заблуждении, — сказал он. — Эти господа здесь и я — фигуры, в вашем деле совершенно второстепенные, мы даже почти ничего о нем не знаем. Мы могли бы быть одеты по самой строгой форме, и ваше положение ничуть не стало бы хуже. Я также совершенно не могу вам сказать, что вы в чем-то обвиняетесь, более того, я не знаю, так ли это. Что вы арестованы, это справедливо, больше я ничего не знаю. Может быть, охранники наболтали вам что-то другое, так это просто болтовня.[3] Но если я, таким образом, не даю ответов на ваши вопросы, то все же совет я вам дать могу: поменьше думайте о нас и о том, что с вами случилось; подумайте лучше о себе. И не стоит так шуметь о том, что вы чувствуете себя невиновным, это вредит тому не совсем уж плохому впечатлению, которое вы в остальном производите. И особенно в речах вам бы надо посдержанней быть; почти все, что вы только что сказали, можно было понять и из вашего поведения, даже если бы вы всего несколько слов произнесли; к тому же все это не слишком говорило в вашу пользу.
К., не отрываясь, смотрел на надзирателя. Ему читал нотации человек, который, может быть, моложе его? Ему сделали выговор за то, что он был откровенен? И ничего не сказали о причинах его ареста и о том, кто отдал такое распоряжение? Придя в некоторое возбуждение, он прошелся взад-вперед, в чем ему никто не препятствовал, сдвинул манжеты с запястий, провел руками по груди, пригладил волосы, прошел мимо тех троих господ, сказал: «Чушь какая-то», причем они обернулись к нему и вежливо, но серьезно на него посмотрели, и наконец вновь остановился перед столом надзирателя.