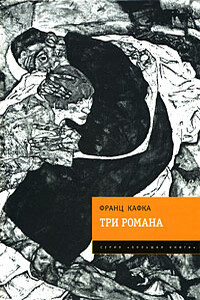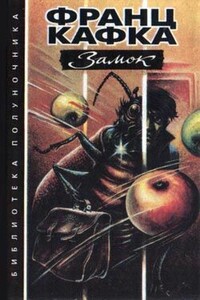Процесс - страница 105
Изображения многозначного, неопределенного, закрытого без конца повторяются, часто в ущерб той наглядности, к которой Кафка везде стремится. Эта дурная бесконечность изображаемого передается произведению искусства. По-видимому, в этом формальном недостатке сказался недостаток содержательный: некий перевес абстрактной идеи, тогда как сама она есть тот миф, с которым Кафка враждует. Избранная им манера делает неопределенное еще более неопределенным, но провоцирует вопрос: к чему такие усилия? Если и так уже все сомнительно, то почему бы не остановиться на достигнутом? На это Кафка мог бы ответить, что именно к безнадежным усилиям он и взывает, — подобно тому, как Кьеркегор хотел своим многословием разозлить читателя и таким способом вспугнуть его с жердочки эстетического созерцания. Но дискуссии о том, правильна или неправильна такая литературная техника, потому столь бесплодны, что критик может во всяком произведении отталкиваться лишь от того, что хочет предстать образцом, лишь от того, что говорит: «Должно быть так, как здесь». А как раз такие притязания эмфатически отвергаются безутешным кафковским «Вот так оно…». И тем не менее мощное напряжение вызванных его магией картин временами пробивает их изолирующий слой. Некоторые из них подвергают самосознание читателя, не говоря уже об авторе, суровому испытанию: «Исправительная колония» и «Превращение» — это такие «доклады»,[60] с которыми сравнятся только «доклады» Беттельгейма, Когона и Руссе,[61] — примерно так же снятые с высоты птичьего полета фотографии разрушенных бомбами городов как бы соглашаются с кубизмом после осуществления того, в чем он отказал действительности. Если в творчестве Кафки и есть место надежде, то не там, где воплощение смягчено, а, скорее, как раз в крайних воплощениях, в возможности вынести и эти крайности, обратив их в речь. Но не эти ли вещи дают нам и ключ к толкованию? Это представляется весьма правдоподобным. В «Превращении» можно, продолжая линию дословности, реконструировать путь эволюции впечатлений. «Эти коммивояжеры — как клопы» — расхожее выражение, которое Кафка, с его самоощущением наколотого на булавку насекомого, должен был подхватить. Не «как клопы», а клопы. Что станет с человеком, если он превратится в клопа размером с человека? Но такими большими и такими же искаженными, с гигантскими, всерастаптывающими ногами и далекими крохотными головками, выглядели бы в глазах ребенка взрослые, если бы удалось проникнуть в зачарованный детский взгляд и полностью устранить влияние испуга; такой снимок можно было бы сделать косо поставленной, задранной вверх камерой. В мире Кафки, чтобы добраться до соседней деревни, не хватает всей жизни, а корабль кочегара и трактир землемера так безмерно огромны, как только в пропавшем без вести детстве видятся людям творения людей. Тот, кто хочет так видеть, должен превратиться в ребенка и многое забыть. Тому в отце снова явится Огер,[62] и придется все время бояться самых ничтожных его движений, и в отвращении к коркам сыра проявится постыдное, дочеловеческое вожделение к ним. А вокруг жильцов меблированных комнат, словно собственное их испарение, начинает зримо клубиться тот ужас, который прежде почти незаметно пульсировал в слове. Писательская техника, ассоциациями привязывающая себя к слову, в сравнении с прустовскими непроизвольными воспоминаниями, привязанными к чувственному, дает обратный результат: вместо воспоминания о человеческом — пробный тест на расчеловечивание. Под ее нажимом субъекты вынуждены как бы биологически регрессировать, словно готовя почву для «звериных» притч Кафки. Но решающий миг равновесия, к которому все у него стремится, — это миг, когда человек осознает, что он не Самость, что он сам — вещь. Длинные и утомительно без-образные многоголосия, первое из которых — разговор с отцом в «Приговоре», имеют целью показать людям, (чего никоим образом не достигнешь) их неидентичность, дополняющую их копиеобразную схожесть друг с другом. Низменные мотивы поступков землемера, наличие которых хозяйка, а затем и Фрида убедительно доказывают, чужды ему, — Кафка блестяще предвосхитил позднейшее психоаналитическое понятие «чуждого Я». Но землемер признает наличие этих мотивов. Между его индивидуальным и его социальным характером — зияющая пропасть, как у чаплинского месье Верду; герметические протоколы Кафки содержат в себе социальный генезис шизофрении.