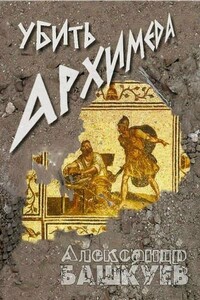Каково ему было в первый раз съесть слизняка, да лягушку, ибо нормальная еда раздавалась лишь детям, да женщинам на сносях?
Я сидел и мучил себя такими вопросами и в какой-то момент стены карцера вдруг раздвинулись и ко мне вдруг сошли и Карл Иоганн -- "Спаситель всех протестантов", и Карл Александр - "Освободитель", и несчастный Карл Юрген, убитый в Стокгольме, и Карл Иосиф -- первый владетель русской Лифляндии.
Они сидели со мной и рассказывали, - как это было в их время и чего стоило: кому воевать с всесильной Курляндией, кому прокормить целый народ на бесплодных болотах, а кому и -- перед лицом палача не отказаться от своих слов... И с каждой минутой, с каждым их словом я становился сильней и взрослей, а голод и холод отступались от моего бренного тела.
Когда наутро мучители отворили дверь карцера, они не поверили ни глазам, ни рассудку -- по их рассказам (и донесениям, сохранившимся в архивах Колледжа) глаза мои стали необычайно покойны и -- совершенно не детски. Я был очень бледен, но уже -- при полном параде, - готовый стоять хоть всю жизнь на часах "при позорном столбе". Потом мне признались, что сам Аббат Николя, увидав меня у столба, сказал своим людям:
- "Этот не извинится. Надо что-то придумать, чтоб и нам спасти свою Честь, и Государыня не взбеленилась, что мы тут морим морозом, да голодом ее любимого внука. Черт побери, она даже Александра Павловича не называет "любимым", а вот этого жида-лютеранина..!
Я, кажется, начинаю понимать -- за что!"
Пока они так совещались, прошло время занятий, обеда, свободного времени, полдника, прогулки и ужина. После каждых пятидесяти минут стойки навытяжку, мне дозволялось правилами десять минут посидеть в караулке и попить горячего чаю перед печью-голландкой. (В противном случае -- я замерз бы еще до обеда!)
Интересно, что если в первый раз охранники (из вольнонаемных русских) даже не шелохнулись, чтоб пустить меня ближе к огню, а чашку я мыл себе сам, ближе к обеду один из них подвинул мне кусок сахару и ломоть хлеба с маслом. Слезы едва не навернулись мне на глаза и с тех самых пор я считаю русских людей -- самыми отзывчивыми людьми на свете. (Латыши б не простили врага, а тут...)
Ближе к ужину русские мужики уже нарочно грели для меня чай и сластили его ровно по вкусу. Тайком от начальства они наварили картошки и я потихоньку жевал ее с маслом и солью -- божественная еда! Пару раз они пытались заговорить со мной, советуя "не лезть в бутылку". Я же отвечал им, что сие -- "Вопрос Веры".
Они сразу же начинали злиться, но к вечеру я стал заставать их за спорами -- почему на Руси такие Порядки? И самые злые из них ругались и говорили:
- "Немцы вон - почитают Веру Отцов, а мы? Православные християне, а прислуживаем всяким католикам! Тьфу, пропасть!" -- и кляли себя, как скотов и предателей. (Меж ними не обошлось без доносчика и на другой день тем -двоим, самым злым мужикам иезуиты дали расчет. Мне стоило огромных трудов написать матушке и вскоре этих двоих вернули в Колледж -- моими телохранителями.)
Самое страшное случилось после вечерней поверки. К тому времени весь Колледж уже побывал предо мной: малыши строили рожи, ругались и плевались исподтишка, ребята постарше грозили по-всякому, Кураторы хмурились и шептались между собой.
Когда стало темнеть, ко мне подошла группка старших ребят. Я не видел их лиц по причине "ливской болезни" и от этого мне стало страшно -- я слышал, как они еле слышно уговариваются лишить меня Чести. На содомский манер.
Если бы они кричали, иль угрожали -- это было б не страшно. Но они обсуждали сие спокойными ровными голосами и отвергали разные планы -там-то, по их мнению, нас могли увидать надзиратели, в ином месте трудно было привесть "москалей" и так далее...
Я не знал латыни и греческого, но уже хорошо понимал польскую речь. И я по построению фраз и всему прочему чуял, что это -- родовитые шляхтичи -истинные Хозяева сего места. Все в Колледже крутится согласно их желаньям и планам. Они нарочно стоят тут - предо мной, ибо знают, что лифляндцы больны "куриною слепотой" и я не узнаю их, случись нам вдруг встретиться!