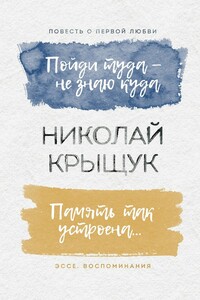Ирина сидела слева от театроведа, чтобы ответить на любой вопрос, возникший по ходу спектакля, а главное — перевести на русский часть текста, непонятного критику.
Губернатор опоздал на несколько минут, и сразу после его появления в ложе зазвучала музыка и поехал в разные стороны занавес, открыв зрителю декорацию. Было это стечением обстоятельств или без Емченко художественный руководитель сознательно не начинал действа — неизвестно.
День у Емченко был расписан плотно, ему уже казалось, что с театральным вечером ничего не получится, даже заготовил извинения перед Ниной, но, то тут, то там сократив разговоры хозяйственных руководителей, освободился вовремя.
К вечеру Василий Егорович разговаривал с женой и детьми. Марта была не в настроении: очевидно, причиной было его длительное отсутствие, и бесполезно было объяснять, что без вызова появляться в Киеве — вещь неприемлемая, что в области напряженная обстановка, и оставлять ее бесконтрольной невозможно. Емченко показалось, а может, так оно и было, что шестое женское чутье подсказывает Марии: дело не в служебных перегрузках мужа, a в другом, и это другое — скорее всего какая-то женщина. Он хорошо знал свою половину и никогда раньше не имел такой канители, как ревность, ибо оснований не было, но теперь… Немного успокоили дети, но все равно настроение после разговора было не лучшим. Если бы с Ниной была только банальная интрижка, ему было бы спокойнее и безопаснее: встретились, порадовались друг другу, и до следующих встреч, которые никого ни к чему не обязывают.
А получалось иначе. Емченко чувствовал: эта женщина, эта красивая актриса с каждым свиданием все больше прирастает к его сердцу, и невозможно было убедить себя в том, что это лишь эпизод.
До сих пор и он и она придерживались полной конспирации: как-никак, оба не свободны, но в последнее время Василию Егоровичу хотелось дольше и дольше быть с Ниной, надоело прятаться от завистливого и мстительного человеческого глаза, но ничего не поделаешь, не будешь, если что, рассказывать байки, что берет у Пальченко уроки сценической речи или актерского мастерства.
Наконец на сцену вместе с двумя другими актрисами вышла Нина, и Емченко, хотя сидел близко от рампы, поднес к глазам бинокль, предусмотрительно положенный для него на бархат, которым был обит широкий балкон ложи.
Кроме Емченко, в ложе был хозяин вечера Петриченко-Черный. Он изредка обращал внимание на сцену, но внимательно слушал актеров и наблюдал за реакцией московского театроведа.
Слишком много было поставлено на кон — это Александр Иванович хорошо понимал, очевидным для него было то, что каким бы высоким ни был уровень постановки, какой бы безупречной ни была актерская работа, успех или провал держались на кончике пера этого Анненкова, двух киевских зубров и, конечно, местных журналистов — неспециалистов, но пафосных и острых на слово борзописцев.
С приближением времени публичного показа у Петриченко уменьшалась уверенность, что его прочтение пьесы будет воспринято адекватно, что костюмы и шекспировское многословие не скроют намеков и прямых аналогий, тех, говоря технологически, ударных мест, где со сцены должна была обращаться в зал современность, потому что государственная слепота, раздор, корысть, обман, подлость кочуют из эпохи в эпоху.
Конечно, Ира Соломаха, женщина умная и не прямолинейная, должна как-нибудь прилично намекнуть Анненкову на выбранную концепцию постановки, но поймет и примет ли режиссерский замысел уважаемый театровед? И киевские его коллеги…
Уравнение со многими неизвестными висело над Петриченко, как недоказанная теорема Ферма. Хотя, кажется, ключ к ней уже найден…
Коробочка мобильника завибрировала в кармане Емченко в антракте. Петриченко-Черный вышел из ложи, Василий Егорович посмотрел на номер: нет, не Марта, и не Кабмин, не канцелярия — и нажал кнопку.
— Добрый вечер, наш губернатор, — послышалось в трубке. — Узнаешь? Можешь говорить?
Емченко узнал своего старого приятеля, одного из немногих, оставшихся в аппарате третьего президента после тотальной чистки.
— Поздравляю тебя, узнал. Что нового в столице?