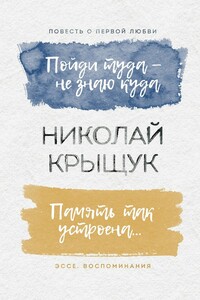— Шутам всегда легче живется, чем аристократам.
Николай Михайлович Шлык, отбыв свою роль с час назад — шекспировский шут бесследно исчезал из пьесы после третьего акта, — явно успел подкрепиться рюмочкой и был в хорошем настроении. Он почти всегда носил с собой две серебряные рюмки-наперстка граммов по двадцать пять и четвертинку приличного напитка.
Роль держала Олега на сцене до последнего момента, буквально до последнего слова.
Гардеман быстро разулся, снял трико, снял парик и протер лицо влажной салфеткой из цветной пластиковой пачки.
Нина освободилась чуть раньше, и должна была еще быть в театре. Олег горел нетерпением: хотелось сообщить ей свежую новость. Он быстро переоделся, накинул на плечи пиджак и хотел выйти, но Николай Михайлович остановил его:
— Чего молчишь, герой? Александр Иванович сердился? Не переживай, он потом извинится. А я, я чем-то не угодил вашей светлости? Не достоин и пары слов? Высокое искусство отобрало слух и речь?
— Да будет вам, Михайлович! Извините, задумался немного.
— Есть над чем? — продолжал Шлык. — Думаю, будет грандиозное зрелище. Наш Петриченко задумал бросить огромный камень в театральное болото. Вот только боюсь, не разбудил бы он чертей, которых там хватает.
— Прочь мистику, Николай Михайлович. Какие там черти? Играем Шекспира — значит, театр жив. Вы же знаете, критиков понаехало, да еще и серьезных.
— Да, постарался Александр Иванович. Дай Бог, чтобы пронесло…
— Как-то оно будет.
Олег пошел к выходу.
— Вам ничего не надо? Собираюсь выйти на солнышко.
— Я и сам думаю прогуляться. Подождёте?
— Нет, уже бегу.
Олег заглянул в гримерку Нины. Там никого не было.
— Пальченко не выходила? — спросил у дежурной.
— Минут пять назад. С Третьяковой. Говорили, весной подышат.
Значит, Нину надо искать в сквере неподалеку. Но если они с Тамарой Томовной, то не стоит и приближаться.
Однако ноги понесли его в сквер. Издали он увидел женщин — те сидели на скамье, о чем-то оживленно беседуя.
День стоял как по заказу — солнечный, теплый, после длительных холодов даже не верилось, что весна наконец победила и не собирается отступать. Женщины под таким солнцем готовы сидеть часами, особенно старые подруги, но раньше Олег не замечал признаков какой-то привязанности, тем более дружбы между Третьяковой и Пальченко, и надеялся, что вот-вот они встанут и разойдутся, каждая по своим делам, но минуты шли, а конца края их беседе не видно было.
В последнее время, а если быть точным, добрых полгода они виделись только в театре — на репетициях, во время действа на сцене. Несколько раз Олег перехватывал Нину на улице, чтобы выяснить причину перемены в их отношениях, потому что в театре было рискованно заводить подобную беседу, там даже невинную беседу о погоде любопытные кумушки, глаза и уши которых торчали даже из вентиляционных отверстий, могли истолковать как прелюдию любовной связи или признак совершенного прелюбодеяния.
Он корил себя за слова, сказанные тогда, осенью, так давно… Не раз он пытался извиниться; сказать, что не имел в виду ничего такого, проклятая ревность — ну, и тому подобное, но Нина отмахивалась от него, как от надоедливой мухи.
Последний раз она вообще унизила его до предела. Получив деньги в бухгалтерии местного учебного заведения, из института, гордо переименованного в университет, где он вел занятия драматической студии, Олег вспомнил, что уже давно должен Нине. Весь долг отдать не получалось, и он, положив в конверт половину суммы, улучил момент, когда она была одна в гримуборной, молча положил конверт на столик, наклонившись над ней.
Нина резко вскинула голову — так, что пришлось невольно отступить на шаг, — и спросила чужим голосом:
— Что это?
— Долг. Не весь. Еще половина за мной.
Нина отодвинула конверт в сторону — создавалось впечатление, что она брезгует прикасаться к нему — и сказала: