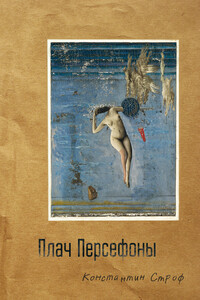Узнать отца было трудно: почерневшее лицо, обтянутое кожей, пальцы рук с пухлыми кольцами суставов, одежда явно с чужого плеча.
— Впустишь? — спросил отец, и его почти забытый голос прозвучал, как гром небесный.
Отец попросился помыться, и пока в ванной шумела вода, Саша нашел в гардеробе костюм, провисевший на плечиках неизвестно сколько, ботинки в коробке, рубашку и галстук, а трусы и майку вынул свои, потому что нижнего белья отца не было.
— Мать не будет ругать, что отдаешь одежду? — спросил Иван Трофимович, глотая горячий чай и осторожно откусывая кусочки бутерброда.
— Это твое, — сказал сын. — Почему ты к нам?
— Некуда, — спрятал глаза отец.
— А та… твоя? — жестко спросил Саша. — Мать замуж вышла, ты знаешь?
— Да и моя, как ты выразился, тоже, — ровным голосом ответил отец. — Я знаю, Саня. Сейчас уйду. Может, кто-то из бывших товарищей пустит на ночь. Я потом позвоню, завтра-послезавтра. Спасибо тебе.
Отец ушел, а вечером состоялся семейный совет, длившаяся бесконечно долго. Сашку поразил Марко Михайлович, предложивший, чтобы бывший муж матери, если не найдет пристанища, поселился в его микроскопической однокомнатной квартирке, когда-то выданной ему театром. Он до сих пор наведывался туда, платил за коммунальные услуги, шутя при этом: мол, когда меня твоя мать выставит, Саша, будет где репетировать роль тени отца Гамлета.
Иван Трифонович принял предложение, пообещав, что компенсирует все хлопоты, как только соответствующая комиссия решит его жилищный вопрос и вопрос трудоустройства. Однако болезнь, приобретенная на Севере, вмешалась в эти планы, и через три месяца, именно под Новый год, отец умер в актерской квартирке, только что выписавшись из туберкулезной клиники.
Александр Иванович и теперь не мог бы уверенно сказать, кем считал или считает отца — героем вроде «первых храбрых» украинцев двадцатых годов или наивным неудачником, который лег под чугунные колеса жестокого механизма власти, сам будучи одним из винтов или гаек той конструкции. Можно — и, наверное, надо было — считать, что протест отца был одним из первых проявлений неповиновения, которые затем умножились, постепенно, медленно, но неотвратимо приближая глобальные общественные перемены. Но судьбы уже широко известных якобы победителей, бывших узников совести, чьи жизни были оборваны в политических битвах или перешли в русло протестного созерцания реалий нового прогресса государства, ставили под сомнение не так целесообразность их жертвенного пути, как готовность общества принять радикальные рецепты выхода из порочного круга конформизма и покорности.
После курсов коллеги уговорили Александра не искать места в каком-нибудь московском театре, не становиться слугой того или иного известного режиссера (многие из них преподавали и делали предложения слушателям, в том числе и ему, Петриченко-Черному), не ждать годами возможности поставить что-то самому, а уйти в свободное плавание режиссером-постановщиком массовых зрелищ, которые становились модными, ибо они приносили концертным структурам немалые деньги, да еще давали возможность и конструкторам этих действ, режиссерам, хорошо заработать.
Несмотря на довольно острые споры, в кои-то веки возникающие между дядей и племянником, Алексей Трифонович прописал родственника в московской квартире.
— Будет хоть кому похоронить старика, — сказал он Александру. — Не оставлять же это все нынешним изуверам. Никто не знает, как сложится твоя жизнь. Профессия твоя шаткая, парень. А так хоть пристанище тебе надежное.
Отпираться было напрасно.
Телеграмма от дяди нашла Александра в Новосибирске, там аншлагом прошло два стадионных представления, дальше должны были ехать в Красноярск, а затем во Владивосток. Текст был короткий и безапелляционный: «Приезжай немедленно Больше некому».
Оставив все на напарника, Петриченко-Черный улетел в Москву. Дядя не выходил на свет Божий, лежал, постанывая, на застеленной кровати. Александр вызвал врачей, те настаивали на немедленной госпитализации, но Алексей Трофимович только вяло отмахивался.
— С некоторых пор я свой диагноз уже знаю… Ну, помучаете старика, облучать будете — и что, поправлюсь? Не лгите себе и мне. Время мое вышло. И так вдвое больше отца прожил. Хватит. Дайте рецепт на обезболивающее — и свободны.