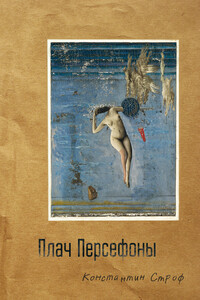Александру доставалась роль немого слушателя, потому что когда-то он выразил сомнение в мудрости и безупречности управления страной во времена Сталина, став на время чуть ли не врагом седовласому родственнику.
— Ты паленого волка не видел, живешь на всем готовом, а мы и день и ночь жилы рвали и в войну, и после нее. Где и кем был бы этот Горбатый, кабы не железная воля Сталина? Где была бы искалеченная страна, кабы не его ум и твердость? Развратили людей, сами себе яму роют. Не ведись на демагогию диссидентов, кислота и желчь разъедают и разрушают!
Попробовал Александр смягчить ситуацию:
— Вы же знаете, что без кислоты и желчи желудок человека не может переваривать пищу, природа недаром так придумала — и для человека, и для общества.
Алексей Трифонович замолчал и долго смотрел куда-то над головой племянника.
— Ты хотя бы знаешь, кем мы с твоим отцом были, когда тебя еще и в проекте не значилось? Полунищими. У деда твоего и бабушки — царство им небесное — пяток детей родилось, только мы двое выжили. Иван совсем маленький был, последний, а я — первый. Зима была страшная. Дед изредка продукты привозил или передавал: то на стеклозаводе пропадал, когда тот работал, то столяром по селам. На затирке сидели. Те, что между мной и отцом твоим, как раз зимой и умирали. Еще один брат — Никита и сестрички — Зоя и Таня.
Алексей Трифонович тяжело поднялся с табуретки — сидели на кухне — и пошел к серванту. Вынул графин с коньяком (всегда переливал из бутылки в хрусталь), налил обоим.
— Помянем.
Александр жалел, что замутил душу старого человека.
— С весны легче становилось. Мы с Иваном рыбу ловили, потом ягоды начинались, грибы… А потом дед забрал нас в Киев — устроился на завод. Южнорусский машиностроительный. Мы уже его как «Ленинскую кузницу» знали. Вот ты о советской власти думаешь себе что-то мутное, а я скажу: не бывать бы мне никогда ни инженером, ни директором огромного предприятия, не руководить из министерства целой отраслью, если бы не советская власть. Образование дала, путь открыла. Так же и твоему отцу.
Алексей Трифонович налил еще по одной, подумал, встал, убрал со стола графин, поставил в сервант.
— Я больше не могу, а тебе не надо.
Выпили молча. Дядя взялся готовить чай, не доверял заварку племяннику.
Пили чай молча. Дядя макал твердое овсяное печенье в широкую чашку, разрисованную восточными пейзажами. Алексей Трифонович привез эту фарфоровую красоту из командировки в Японию. Пришлось в свое время поездить по миру.
— Не знаю, Александр, что там у вас в семье обо мне… Одно скажу: я не мог твоего отца спасти. Не потому, что не хотел или испугался, не потому, что о своей шкуре заботился. Ничего бы я не смог, хотя бы и министром был или членом политбюро. Сам тогда чуть не загремел… Говорю это, как думаю: твое счастье, и матери тоже, что Иван от вас ушел и развод оформил. Не видать бы тебе ни института, ни… Да что там говорить… Горько, но правда… Я до сих пор не понимаю, как он, секретарь солидного райкома, член бюро горкома, мог на такое решиться… Как дитя малое… Прости, Саша, что так говорю. О покойных — либо хорошо, либо…
— Лучше ничего, — не выдержал Александр. — Каждый сам выбирает судьбу. Или судьба — каждого. Помните, как Ленин ответил жандарму, когда тот сказал, что перед молодым человеком стена, мол, куда ему против нее? Помните? «Стена, да гнилая, тронь — и развалится». Отец, конечно, не Ленин, и историю о Владимире Ильиче могли придумать, как многое придумали… Но отца я уважаю, хотя он и бросил нас. Я с ним виделся, когда его амнистировали. Тень от человека осталась, иначе и не скажешь…
Алексей Трифонович встал, подошел к серванту, снова вытащил графин и рюмки, достал из холодильника сыр и ветчину.
— Такой уж сегодня вечер, — сказал, словно извиняясь. — Помянем отца твоего, моего брата единокровного, что бы там и как ни было. Все пошло не так, как надо… Был бы сейчас при почете, известным человеком был бы — замес у него настоящий, крутой. Это же надо — с прутиком против танка… Как будто на войне не был, пороху не нюхал…
Отца Александра, Ивана Трифоновича, арестовали и осудили за антисоветскую пропаганду. Саше тогда было лет семь, мать долго скрывала от сына то, что произошло — отец, мол, в длительной командировке. Но у лжи, даже во спасение, короткие ноги.