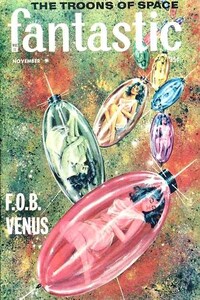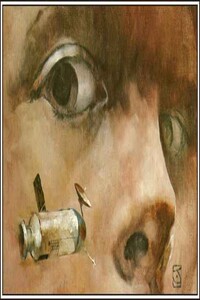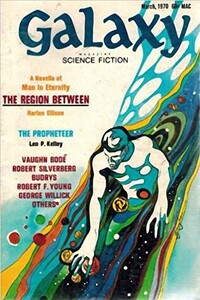* * *
Была уже ранняя ночь. Темно-сиреневая туша огромной тучи заполнила весь верх, который отсюда, с жалкой позиции маленького человечка, выглядел как дно перевернутой преисподней, залитой грехом и слезами посудины. Лишь в дальнее далеко, где мой край обретал пределы, на севере и юге, закатившее глаз солнце еще доплевывалось лучами, освещая с одной стороны нары, сходки, угрюмые буреломы из болотной хвои и нюхательных грибов и вечную мерзлую мглу, а с другой перегретые от дневного жара лезвия ятаганов и жалящие небо острия минаретов, восторженная песня муэдзинов и еле слышный свист из ноздрей пленных рабов, тихую радость зашторенных жен и проклятия безводной, иссохшей, с треснувшими губами и шершавым покатым лбом земли.
Я шел к краеведческому музею, как ползет заговоренный терпкой травой муравей, таща не вне, а внутри себя мертвого соплеменника, спотыкался, будто был обычный в тяжкую умирающую осеннюю пору обессиленный своим весом шмель, ничего не успевший за лето, кроме жужжать и потеть, я стал и хотел стать полусгнившим листом, слетевшим наконец с тупого дуба или любимицы висельников осины, чтобы наверняка спастись от проблем, упасть в землю и тихо гнить, создавая гумус, то есть рай для идущих вслед. Мне было все равно, еда и вода, сад или ад, сон или явь. Ведь, кажется, теперь только безразличие еще держит мир.
В глубоком длинном темном подвале Музея в углу с тряпьем ковырялся старший техник Афиноген.
– Чего приперся? – мокро кашляя, спросил он меня.
– Не знаю, – философски заметил я. – С одной стороны, жрать не разучился, а сдругой – тошнит от верхней жизни, – я ткнул туда пальцем. – С третьей… хочу что-нибудь где-нибудь взорвать… чтобы рвануло так… чтобы даже у попов крыша съехала.
– Ну ты террорит, – приклеил меня техник. – Пашка чтоль ты?
– Тут внизу я Павел, блин. А наверху… наверху я козел дойный и овца без племени-рода. Племя неполноценное и младое.
– А ты не буйный? – опасливо воззрился техник, человек для Нюрки явно мелкий, но жилистый.
– Не сомневайтесь, просто отец заболел.
– Тада… как скажешь. Робить-то будешь, или отсидеться пришел? Как все.
– Могу, – сообщил я вяло. – Какой вентиль крутить?
– Нюрка собчила, ты робить больше их пола горазд. С уважением против тебя.
– Это зря. Начинаю с охотой, не отгонишь, но быстро гасну. Надоедает до икоты.
– Так все, – мирно согласился Гена, стуча железом по железу. – Иди, вон, в третью дверь, большой вентиль на два оборота по стрелке. Кто это «оборот» знаешь?
– Крутились, – скупо сознался я.
В тухлой тусклой комнатенке я провернул огромный вентиль, и где-то в невидимой трубе ухнуло и понесло, пахнуло вонью и нечистью, дохнуло затхлым, кислым и негодным.
За моей спиной маячил Афиноген:
– Журчать начнет, закрывай, – бросил он и ушел.
Когда я вернулся, техник сидел на тряпье и сосал полузатухшую папиросу, из которой трубой валил дым, как от тонущего буксира.
– Афиныч, а куда канализацию сбрасываем? – спросил я, присев рядом.
– Тебе зачем? Бросаешь, и бросай. Нашел о чем заботу. А ты не стукачка случаем?
– Нет. У меня просто голова не в порядке, – признался я. – Сплю мало, очень стал переживучий. Девушку хорошую завел, а все равно – мимо, хожу, как лунаход. Тут петь захотелось, так ни одной песни не вспомнил.
– Как так? – удивился техник. – А вот: во поле береза… люли-люли…
– Эту помню. А другую нет. Была песня, бабка в глухом детстве пела – почти музыку вспомнил, почти слова на язык… нет, вымело. Вся жизнь, как канализация.
– Мы ее туда сбрасываем, вниз… – сказал техник.
– В какой низ? У нас низа никакого нет в крае, только верх.
– У вас, белоручков, низа нет, – усмехнулся своему знанию Афиноген. – А в натуре – вон он, в своем красе и полном соку. Бежит река погани влево и в нижние отводы метра съезжает.
– Чего-о? – у меня шары полезли на лоб.
– А того.
– Не чуди, и слушать не хочу. Метро, – возмутился я, несколько бесясь. – Метро оно на радость нам в нутро. Нет никакого метра, Афиныч, одна сказка.