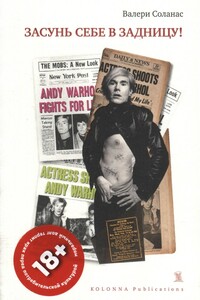Спустя пять минут я вернулся, держа фотоаппарат в руке, и спросил его разрешение сделать фотографию. Он тотчас же указал мне на дверь и, так как я еще колебался, он открыл какой-то ящик и положил в него руку, снова приказав мне убираться, как если бы собирался вынуть из ящика револьвер или же какое-то другое средство самообороны… Похолодев, дрожа, я вышел. Просьба о том, чтобы сделать снимок, пусть и учтивая, была до такой степени насильственной, угрожающей, что он был готов взяться за оружие или как-то иначе вступить в бой, ведь, может быть, в ящике ничего и не было…
Через несколько недель или несколько месяцев я заметил, что лавка фармацевта полностью переделана и модернизирована: стенная обшивка из лакированного дерева заменена шкафчиками с металлическими выдвижными ящичками, фарфоровые бутыли исчезли. Я каждый день проходил мимо до автобусной остановки, но старался не обращать внимания, что там ремонт. Старика в костюме заменили молодые женщины в белых халатах. Я больше его не видел.
ФОТОГРАФИЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ СМЕРТИ
К осени 77-го года (нахожу эту дату в своем дневнике) я был знаком с Р.Б.[21], писателем, уже около полугода с тех пор, как отправил ему свою книгу и получил ответ; мы стали обмениваться письмами. Потом мы увиделись и много раз вместе ужинали. Он живет один с матерью, уже очень старой и больной. Часто именно она отвечает на мои звонки, я знаю ее голос. Но в течение всей той осени Р.Б. отменял наши встречи: мать болела, и он за нею ухаживал. Ее голос был все более и более слабым и печальным на другом конце провода, она отвечала с усталой вежливостью. Я представлял, как он в запертой и темной квартире на Сен-Сюльпис очень мягко играет на пианино пожилой, очень бледной, очень уставшей даме, лежащей под белым одеялом, но по-прежнему, как мне думается, поднимающейся с постели, чтобы приготовить сыну поесть. И как он, возвращаясь, читает ей, безмятежно развлекает ее, что-то напевает, прикладывается губами к ее тяжелым от жара векам.
Однажды я написал ему письмо, чтобы сказать о своем желании сфотографировать его с матерью, ведь именно ей он посвящал все свое время и все нежные чувства, с нею его связывали самые прочные узы. Фотография сама по себе могла быть простой и банальной (я представляю эту фотографию несколько заурядной: мать лежит или же сидит на стуле, а он стоит возле нее, может быть, держа за руку), она даже могла быть технически неудавшейся, в любом случае она была бы довольно сильной. Это была именно «та самая» фотография Р.Б., единственно для меня возможная в тот момент.
Я не получил ответа и беспокоился, как бы мое предложение, пусть и высказанное с большой осторожностью, не покоробило его или просто-напросто не потревожило, так как принадлежало к тому роду просьб, которые его угнетали: просьб о составлении предисловий, статей, участии в теле- и радиопередачах, предоставлении фотографий, выступлениях или съемках, и, в конце концов, о краже сил и времени, отнятом у его собственной работы… Дней через десять я позвонил ему, несколько беспокоясь по поводу его ответа.
Его голос был еще более тусклым, еще более угасающим, чем обычно. Я спросил его, получил ли он мое письмо. Он мне сказал: «А ты не знаешь? Десять дней назад мама скончалась…». Значит, он получил письмо уже после смерти матери, или когда она была при смерти или умерла только что. Я не пытался узнать, на какой именно момент пришлось мое письмо и не погрузило ли оно его в еще большее отчаяние, или не выбросил ли он его с презрением, с отвращением к этой непроизвольной бестактности. Я рассыпался в извинениях, но он уклонился от ответа и снова перенес время нашей встречи, сославшись на то, что чувствует себя неуверенно после ее смерти, похорон и оформления наследства, а также на усиливающуюся боль, привыкание к одиночеству, очень медленное и тяжелое погружение в новый мир, мир без нее, мир без мамы… Я боялся, что письмо будет стоять между нами всегда, будто черный провал, вечное сожаление, какой-то необдуманный шаг.
Это одинокое приключение (одинокое еще потому, что оно потерпело неудачу, и фотография, похищенная смертью, так и не была сделана) заставило меня осознать одну вещь: довольно редко возникавшее у меня желание фотографировать и то, что именно я хотел фотографировать, всегда было связано с непосредственной близостью смерти, то есть с чем-то непристойным, и в том случае, когда мое предложение сразу же оказывалось «устаревшим», как было сейчас, с извинениями. К. Р., которому я приблизительно в то же время рассказал о желании сфотографировать актера М.Л. вместе с теткой и парализованной матерью, подобрал слово, чтобы определить мой интерес: назвал его «порочным».