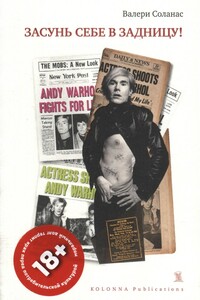Родители должны были переезжать. Покинуть эту большую светлую гостиную, в которой разыгралась негативная драма. Они собирались жить в таком же пошлом пригороде. Отец отдал мне маленький фотоаппарат. Он купил себе камеру побольше. Отцу было приятно позволить мне пользоваться этой большой камерой, и он пригласил меня пофотографировать мать. Мы в последний раз оказались втроем в гостиной накануне переезда. Индикатор, что пленка будет пересвечена, мигал в видоискателе столь же часто, как и маленький красный огонек, обозначавший нужное освещение, напоминая колющую боль в животе, и, против ожидания, лицо матери стало необычайно спокойным, расслабленным, оно воскресало, чудесным образом вновь обретая то выражение, которое я вызвал во время первой съемки. В одно мгновение моя мать в видоискателе стала красивой. Мне показалось, что так она говорила мне о своей грусти.
Так получилось, что у этого текста нет других иллюстраций, кроме чистых кадров пустой катушки. Если бы кадры были отсняты, текста бы не существовало. Снимок лежал бы передо мной, вероятно вставленный в раму, безукоризненный и поддельный, имеющий к реальности еще меньшее отношение, чем фотография, снятая в молодости: проступок, доказательство почти сатанинской практики. Нечто большее, чем ловкий обман или фокус иллюзиониста: устройство для остановки времени. Ибо текст этот написан от отчаяния, вызванного тем снимком, отчаяния еще большего, чем если бы снимок был просто размыт, застлан туманом или украден, ведь это был лишь призрачный снимок…
В детстве мне нравились фотографии на обложках дисков, потом кадры из кинофильмов: снимки певцов, актеров. Их тел, лиц. Я целовал их. Некоторые снимки были надписаны. Я прятал их под стекло письменного стола, защищавшее дубовую поверхность, и, приложившись к стеклу губами, на мгновение оставлял на нем запотевший след от дыхания, а потом стирал его рукавом. Теперь имена этих певцов или актеров вызывают улыбку, я и сам улыбаюсь: певец оперетты, почти копия моего отца, Жорж Гетари, потом — Теренс Стэмп в роли Тобби Даммита. Мне было двенадцать с половиной. Родители водили меня в кино воскресными вечерами только на Луи де Фюнеса: «Пик-пик», «Замороженный». Эпизод Феллини в фильме «Три шага в бреду» был подобен катастрофе: я одновременно влюбился в такие образы, в такое кино и впервые в жизни влюбился в образ мужчины, в патологический образ, образ дьявола.
Отец проводил меня в отдел «Рэнка»[2], занимающийся прокатом (я вспоминаю эту историю, так как только что прочитал в газете, что «Рэнк» закрывается), он дал пять франков консьержу, и мы ушли оттуда с двумя фотографиями сцен фильма. Они не продавались, и, тем не менее, я получил их. Их уже много раз накалывали булавками в витринах кинотеатров. Ватой, смоченной спиртом, я пытался осторожно отклеить перечни исполнителей главных ролей, так как в них повторялись имена, которые мне хотелось стереть, имена прочих идолов, несправедливо красовавшихся во главе списка (Брижит Бардо, Ален Делон). На свету под стеклом стола снимки поменяли цвет: желтый стал желтее, зеленый зеленее, они стали одновременно и более прозрачными, и более насыщенными, словно картинки, снятые через фильтр.
Я все еще очень хорошо представляю себе эти фотографии, но не хочу к ним возвращаться: они долго сопровождали меня, а теперь лежат на дне коробки. Они поочередно крепились булавками к обоям, потом приклеивались, потом отклеивались от дверей. Они всегда были то слишком большие, чтобы повесить, то слишком маленькие, чтобы куда-нибудь положить. Слишком часто их разглядывали, разглядывали до тех пор, пока они не становились невидимыми, раздражающими. На первой фотографии (я, кстати, не знаю, почему решил, что она была первой) на желтом фоне Теренс Стэмп в черной куртке, застегнутой до подбородка. Его обесцвеченные, светлые и грязные, плохо причесанные волосы спадают на плечи. Его кожа похожа на воск, кто-то нарисовал на его левой брови паука. Он смотрит в объектив, его белые, сжатые в кулак руки протянуты к кому-то за пределами снимка. Его руки протянуты к притворно улыбающейся светловолосой и белокожей девочке, которая играет со слишком легким мячом в зале аэропорта и скоро будет точно так же играть с его отрезанной головой у разрушенного моста после аварии Альфа Ромео. На второй фотографии с зеленоватым фоном он стоит как раз на этом мосту; может быть, он уже умер, однако он возвращается. На нем сиреневые атласные брюки и белая, расстегнутая на вспотевшем теле рубашка; у него дикий вид, паук по-прежнему ползет по брови.