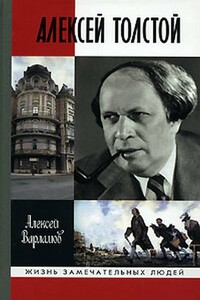Для того чтобы представить степень ангажированности Пришвина и его подключенности к советским делам, приведу слова Алексея Толстого, который на рубеже тридцатых годов, как и Пришвин, пережил атаку рапповской критики, а потом в гораздо более открытой и абсолютно беззастенчивой форме перешел на сторону Сталина.
«Только после роспуска РАППа, после очищения нашей общественной жизни от троцкистов и троцкиствующих, от всего, что ненавидело нашу родину и вредило ей, — я почувствовал, как расступилось вокруг меня враждебное окружение. Я смог отдать все силы, помимо литературной, также и общественной деятельности. Я выступал пять раз за границей на антифашистских конгрессах. Был избран членом Ленсовета, затем депутатом Верховного Совета СССР, затем действительным членом Академии наук СССР».
Вот почему если и осуждать Пришвина за то, кем он был и что в эти кровавые годы думал об иных из жертв террора, то важно представлять и то, чем или кем он не был. Когда в 1936 году ему прислали телеграмму из «Известий» с заказом написать о своих впечатлениях от очередной речи Сталина, Ефросинья Павловна дала в высшей степени замечательный ответ, еще раз доказывавший, насколько мудра бывает необразованная русская женщина и насколько был прав ее супруг, видя в ней живую частицу народа:
«Пришвин уехал на Шариков Пол. Телеграфной связи нет.
Ефросинья Павловна».
А сам Пришвин, размышляя, ввязываться или не ввязываться ему в эту пропагандистскую акцию, задавал себе вопрос:
«Разве можно об этом написать? Разве как пишут Леонов, Толстой: сегодня пишут Сталину, завтра Троцкому напишут».
Пришвин гимнов не пел, да и вообще в 1937 году, как человека с экологическим сознанием, его тревожило нарушение социального баланса, или, как он резче выразился в другом месте, жизнь «на милости людоедов».
«Интеллигенция русская революционная в существе своем была с Богом, но ей пришлось поднять меч, и должна была умереть по закону: взявший меч от меча и погибнет. Тех, кто вовремя успел умереть, того прославляют, а кто опоздал умереть — того умертвили с позором».
Сталин, таким образом, оказывался орудием судьбы, но орудием необходимым и, возможно, полезным, ибо — вспомним слова, сказанные наркомом Семашко растерянному, сбитому с толку елецкому интеллигенту летом 1918 года: делается большое дело. Тогда Пришвин в справедливости этого дела уверен не был. Двадцать лет спустя — с известными оговорками, но уверовал:
«Столько убийств! И все-таки кровь в самое короткое время исчезает, как роса. И все потому, что человек этот прост, целен и совершает убийства не за себя, а по вере своей в лучшее общество. Петр I ведь тоже казнил много, и все такие казнят, и у всех сошла кровь, как роса, кроме Робеспьера. Видно, чтобы кровь обращалась в росу, кроме веры в лучшее, еще нужна и удача. Неудачливые государственные деятели становятся злодеями».
Сталин, по Пришвину, удачлив, Сталин не злодей. За Сталина был если не Бог, то промысел, судьба. Она шла по следу с бритвой в руке, и тут срабатывал едва ли не протестантский закон в духе Кальвина: одни предопределены ко спасению, другие к погибели. Одним суждено стать жертвами, другим палачами (и очень часто судьбу своих жертв повторить), а третьим уцелеть.
В число третьих попал не только Пришвин, но — как это ни удивительно — и второй герой этой главки Разумник Васильевич Иванов-Разумник. В 1937 году его арестовали снова. Казалось, все было кончено. Второй арест дался пожилому литератору тяжелее первого: два года тюрьмы, допросов, правда, без применения приемов устрашения. А затем о нем неожиданно на время забыли и после смены следователя, который сам оказался «врагом» народа, дело пересмотрели, и подсудимого освободили. Вступился ли за друга Пришвин, сказать трудно. Скорее всего нет. Во всяком случае, 14 февраля 1940 года Иванов-Разумник написал жене:
«…ведь тогда и ММ оказался в нетях. По нынешним временам судить за это людей строго не приходится».
Но, по всей видимости, о Разумнике Васильевиче написал Пришвин в Дневнике 1939 года, уже отчаявшись его когда-либо увидеть: