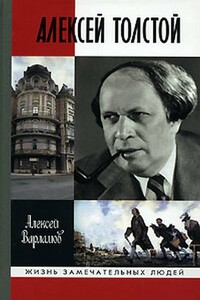«— Вот ты меня уговорил твердо в колхоз поступать, а не попадем мы с тобой к сатане?
— К антихристу, ты хочешь сказать? — спросил я.
— Антихрист и сатана, я полагаю, это все одно, а, как по-вашему? Не попадем мы с вами к антихристу?
— Ты как к коммунистам относишься, к правительству? — спросил я. — Понимаешь их обещания?
— Понимаю, только вижу: одни обещания.
— Но хлеб-то вот дали…
— Хлеб, правда, дали.
— И если все дадут, как обещали?
— А вы как думаете, дадут?
— Непременно дадут.
— А если дадут, то за такое правительство надо будет по гроб жизни каждый день Бога благодарить (…)
— Вот что, — сказал я Осипу, — выбрось ты вон из головы своего антихриста, твердо, без колебаний в совести, поступай в колхоз и добивайся там работы на своем путике».
Год спустя Пришвин совершил новую поездку на Кавказ, в Кабарду, куда направила его газета «Известия», возглавляемая Н. И. Бухариным. Уже по возвращении из интересной, полной впечатлений и эмоций командировки возник странный сюжет, связанный с взаимным непониманием заказчика и исполнителя при участии НКВД, но эти опасные подробности (не до конца выясненные) мы опустим, а пребывание писателя в гостях у первого секретаря Кабардино-Балкарского обкома, искреннее восхищение им и желание об этом человеке писать означало достаточно тесное, интимное сближение Пришвина с властью на высоком уровне и возможность ее узнать, потрогать и даже полюбить, чтобы не воспринимать руководящих лиц как абстракцию. Опыт не прошел даром, Пришвин пытался написать о гостеприимном хозяине и его земле, однако «Счастливая гора» написана не была:
«Конечно, я не описал Кабарду, не потому что современное смутное время не требует поэта (так я говорю), а что есть деньги и можно не писать. Я впервые испытываю наслаждение: могу не писать. Будь у меня возможность, я бы, по всей вероятности, ничего бы и не написал. Это не самолюбие: не могу занимать денег и ужасно боюсь, что придется когда-нибудь занимать».
Конечно, не все было благостно и просто в эти годы. Периоды оптимизма сменялись пессимизмом:
«Бросился в Москву от страшной и беспричинной тоски. Все размотал в вине и разговорах».
И, несмотря на разговоры, по-прежнему жуткое одиночество. С одной стороны — тысячи, сотни тысяч читателей, письма от пограничников, пенсионеров, молодежи, детей, его узнавали на улицах, приглашали в школы, однажды пришла посмотреть на живого писателя молодая девушка и попросила показать награды (а у него тогда был только значок «Ворошиловский стрелок»), потом появились и скромные ордена, позднее именем Пришвина назвали пик и озеро в районе Кавказского заповедника недалеко от Красной Поляны, мыс возле острова Итуруп на Курильских островах, а с другой — страдание от непонимания в литературной среде, и, как вспоминала Н. Реформатская, в разговоре у Пришвина «не раз проскальзывала мысль, что он „старейший писатель“, а его все учат, учат, понять же значение его дела не хотят или не могут».
Одна из причин одиночества и непонимания — семейная, с Ефросиньей Павловной не оставалось сил и на то, чтобы ссориться, дети выросли и зажили своей жизнью.
«Соблазняет решение устроить окончательно свою старость на Журавлиной родине, чтобы там жить до конца».
Но дело было и в общем положении вещей, для уверчивого писателя немыслимом:
«Остаются только свои семейные да еще два-три старичка, с которыми можно говорить о всем без опасности, чтобы слова твои не превратились в легенду или чтобы собеседник не подумал о тебе как о провокаторе. Что-то вроде школы самого отъявленного индивидуализма. Так, в условиях высшей формы коммунизма люди России воспитываются такими индивидуалистами, каких на Руси никогда не бывало».