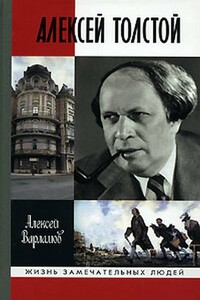И заключал это наблюдение выводом:
«Не такова ли и вся Россия, как эта женщина, в отношении к советской власти?»
Но не таков ли был и Пришвин, что брал он сторону власти именно в силу ее антинародного характера, из ненависти к окаянному народу и его типичной представительнице, отравившей писателю жизнь?
Последнее (прием запрещенный, переход на личность) есть, конечно, не более, чем полемический перехлест, возможное возражение в политическом споре на тему «кто виноват?», очевидно, что корни этой вражды лежали глубже, да и коль скоро речь зашла о традициях, Пришвин был не первым и не последним русским писателем, оставившим горькие и беспощадные строки о своем народе, или вернее о крестьянстве, которое в России традиционно привыкли с народом отождествлять. Были жестки в своих оценках русских мужиков и Чехов, и Бунин, и Горький, и Андреев, и Булгаков, и Куприн (вспомним «Олесю»), и Вересаев (с его рассказами о холерных бунтах), и Грин (ведь именно народ травил Ассоль) — я беру только пришвинских современников и писателей очень разных, — но такого сочетания ярой государственности и личного патриотизма, с одной стороны, и антинародности (а заодно и антицерковности, вернее, антиклерикальности), с другой, — не было, пожалуй, ни у кого из них.
Конечно, во многом своеобразная экстремальность его позиции объяснялась затянувшейся полемикой с народниками и стоящей за ними традицией идеализации народа, причем народа непременно бедного, страдающего. И все же пришвинский взгляд на вещи беспрецедентен, и потому сегодня, когда все эти вопросы государства, народа, церкви, интеллигенции, власти опять обострились, Пришвин оказался одним из самых горячих писателей, которого по внимательном прочтении неизбежно начнут тянуть на себя самые разные общественные силы и выдергивать разные цитаты, благо материал позволяет.
Пришвинские Дневники вообще так устроены, что при желании из них можно надергать, искусственно подобрать каких угодно цитат и представить Пришвина по вкусу великим борцом с системой, а можно — напротив — конформистом; можно создавать образ писателя-христианина, а можно — пантеиста, язычника или даже богоборца, последовательного реалиста или модерниста, а то и постмодерниста (последняя идея нынче очень модна), патриота или русофоба — многое тут зависит от выбора позиции читателя и исследователя, и поэтому воистину у каждого из нас — свой Пришвин.
Что было, то было:
«Истории русского народа нет: народ русский остается в своем быту неизменным, — но есть история власти над русским народом и тоже есть история страдания сознательной личности».
«Русский народ есть физически-родовой комплекс; его так называемое „пассивное сопротивление“ есть не духовная сознательная сила, а путь физического роста (так дерево повертывает свои ветви к свету, а паразит ползет всегда в тьму)».
Кто это написал — Андрей Синявский, Збигнев Бжезинский или Ричард Пайпс? Нет, Михаил Михайлович Пришвин. Страдание сознательной личности, затерянной в неподвижном народе, в бессловесной, безличной и враждебной личности биологической массе, в плазме, занимало его, по-видимому, больше всего и казалось сутью русской истории, потому что безмерное личное страдание в те годы стало пришвинской судьбой. Он увидел свой народ в самые трагичные и тяжкие для него годы великой смуты, когда в народную душу вошел и на время победил ее страшный соблазн, названный Буниным окаянством, а самим Пришвиным — черным переделом, в те минуты, которые народ и сам в себе не любит и стремится их позабыть, залить вином и готов принять расплату (может быть, поэтому не встретила сопротивления коллективизация и воспринималась в народной душе как наказание за грех революции и грабежа), но только простить и забыть увиденное Пришвин не мог. Подзаборная молитва 1917 года не позволяла.
Наверняка вопросов у сельского шкраба было больше, чем ответов, и эта тема не была исчерпана приговором крестьянству, Пришвин будет к ней возвращаться и находить новые грани в более поздние периоды своей жизни, да и в елецком, и в смоленском житиях были просветы и были добрые люди, и все эти впечатления и размышления горьких провинциальных лет русской смуты легли в основу одного из самых пронзительных пришвинских творений — повести «Мирская чаша», написанной весной 1921 года, впервые с купюрами опубликованной только в конце семидесятых годов, а без купюр напечатанной лишь недавно.