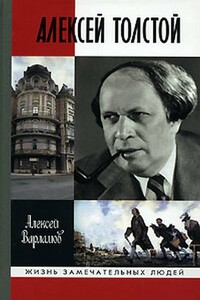Вот почему художник должен быть простодушен, как дитя, вот что вызревало в Пришвине долгие годы, медленно в нем перегорало — реальность сочеталась со сказкой, и завязывались все узлы. Но при этом Пришвин, очевидно, торопился включить себя в литературную ситуацию двадцатого века, так, чтобы написанное оказывалось поводом для повествования об ищущей личности, о хождении интеллигента в народ, и не случайно к одной из глав, посвященной Соловецкому монастырю, дается эпиграф из самого что ни на есть декадента Константина Бальмонта:
«Будем как солнце! Забудем о том, кто нас ведет по пути золотому».
И все же если сравнить изображение северной обители в двух пришвинских книгах, можно увидеть огромную разницу. В первой Соловецкий монастырь — прародина Выговской пустыни, их связь для писателя несомненна и органична так же, как органична связь между старообрядческой культурой и жизнью людей в птичьем краю. Во второй — описание монастыря превращается в карикатуру, старательное выискивание недостатков и розановское противопоставление монастыря и природы.
Северная природа как бы «не доразвилась до состояния греха» — замечательно сказано, но дальше читаем о самой обители:
«Это гроб, и все эти озера, зеленые ели, весь этот дивный пейзаж — не что иное, как серебряные ручки к черной, мрачной гробнице».
Белокаменный Соловецкий монастырь менее всего похож на гроб, скорее уж — на пушкинский сказочный остров из сказки о царе Салтане, вдруг выросший среди морских волн, но, кажется, здесь на впечатление путешественника давит тот самый груз книжной культуры, чужой мысли, которой он успел набраться за несколько петербургских лет и от которой впоследствии пытался освободиться.
Конечно же, декадентскими или розановскими (Розанов все же не декадент) поисками содержание первых пришвинских книг не исчерпывается, и в «Колобке» есть масса замечательных страниц — чего стоит потрясающее описание лопарей, призыв к их защите, к спасению от вымирания, что невольно заставляет вспомнить Платонова и то родственное внимание, которое провозглашал Пришвин основой своего творчества. Но Пришвин не стал Максимовым или постМаксимовым, он не сделался ни этнографом, ни бытописателем, в творческих поисках его влек явно другой интерес, и волшебный колобок его катился совсем в иную сторону… И особенно отчетливо это проявилось в выборе друзей и литературной среды.
Писатель, как показывает насмешливая литературная практика, — вовсе не тот человек, который пишет романы или даже ведет всю жизнь дневник, не так все это важно, писатель — тот, кто участвует в литературной жизни. Пришвин это понимал, но вот как раз с писательским миром у припозднившегося новичка сложились престранные отношения.
Поначалу все шло ничего. В 1907 году Пришвин познакомился с А. М. Ремизовым, уже хорошо известным в литературных кругах прозаиком, и более близкого человека изо всей пишущей братии для Михаила Михайловича не было всю его жизнь. Сохранилось замечательное высказывание Ремизова об их первой встрече: «Мое впечатление — черная борода и черный зачес. И растерянные глаза от удовольствия. Помню, я подумал: со мной такому никак!»
Однако вышла долгая, до самого отъезда Ремизова за границу, писательская дружба.
«Ремизов… своей личностью сделался единственным моим другом в литературе, хранителем во мне земной простоты».
У них было немало общего и прежде всего — принадлежность к одному поколению русской интеллигенции, было свое «преступление и наказание» — сиречь юношеское увлечение марксизмом, за которое Алексей Михайлович расплатился тремя годами северной ссылки и получил в награду доступ к русскому Северу. Именно там, в полунощном краю, каждый из них родился как художник и обратился, хотя и очень по-разному, к искусству фольклора, к сказкам и сказочным образам. Через Ремизова произошло приобщение Пришвина к писательским кругам, Михаил Михайлович был принят в «Обезьянью великую вольную палату» — любимое ремизовское детище, где шутовство мешалось с серьезностью, и это было чрезвычайно важно, потому что давало ему возможность попасть в среду наиболее известных русских писателей той поры.