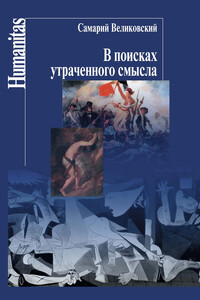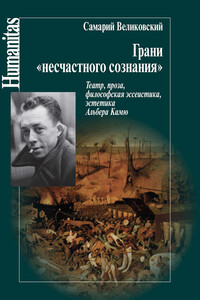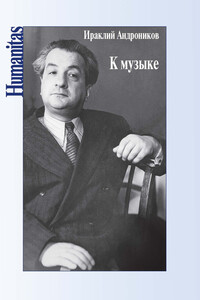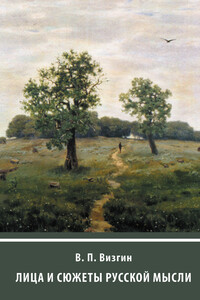Пришвин и философия - страница 20
Душе моей тяжко без Гачева. Одних его писаний ей мало: не с кем свободно, в охотку, вальяжно перекинуться мыслью-словечком. Струны душ наших были настроены так, что легко и естественно входили в резонанс радостного узнавания. Это было счастье. Увы, я его не всегда должным образом ценил.
Искусство жить – умение уместного (точнее: у-временного, то есть во время сделанного) чередования фаз. У Георгия Гачева аскетическая фаза уместно и умело перемешивалась с фазой гедонистической, хотя сам его «аскетизм» не был лишен гедонистического аромата. Но набравшись аскезы вдосталь, он чувствовал, что нужно «сменить пластинку», и переходил к «гедонизму». Это могла быть поездка за рубеж, в родную Болгарию или просто вылазка в общество, компанию с интересными умными разговорами. Во всех ситуациях Георгий Гачев умел жить вкусно. И чтобы вкус жизнепроживания не пропадал, он освоил искусство своевременной перемены его регистра.
В Гачеве, что удивительно, было простецкое начало. У него, интеллигента потомственного и по природе космополитического, натура не была односторонне эрудитско-ученой. Он любил и ценил вольное «жизнемыслие» и поэтому старался не перегружать себя книжными знаниями, которые, он это чувствовал, легли бы балластом на крылышках души.
Да, фанатиком-книгочеем, кабинетным книжником он не был. Но «читануть» что-нибудь – и непременно «вкусненько» – он любил. И, думаю, он был настоящим, можно даже сказать, образцовым, то есть вдумчивым и неспешным, читателем. В глуши наро-фоминского, потом переделкинского Подмосковья или на турбазах и в домах отдыха после затяжных лыжных пробегов читал он «в охотку», на свежайшую голову, физически усталый, но не настолько, чтобы хотелось немедленно «отрубиться» в сон. Искусством меры, поддерживающей способность остро чувствовать течение жизни, Георгий Гачев владел бесподобно. Полулежа в удобном креслице, вытянув натруженные ноги, в уюте и тишине он читал.
Пришвин также умел и любил читать, как он говорил, «глубоко». Вот его запись в дневнике: «Читаю глубоким чтением Аксакова, и мне открывается в этой книге жизнь моя собственная. Вот счастливый писатель! Прошло сто лет, а читаешь – и как хорошо!»[54] Во время «глубокого чтения», в пришвинском смысле, встречаются, питая друг друга, два погружения: и в читаемого автора, и в собственную жизнь, благодаря чему она вдруг начинает открываться в ранее неопознанных и существенных формах. Поэтому такое чтение – творчество и сотворчество, познание и самопознание. По-настоящему глубокого чтения достойно то, что само глубоко, живо и вдохновенно написано. А «Семейная хроника» С.Т. Аксакова именно такова: она всегда читается так, будто вдыхаешь свежесть майского луга. «Благорастворение воздухов» разлито по ее простым и вечным страницам.
Гачевская манера читать не только «вкусно», но и «глубоко», то есть жизненно-продуктивно, напоминает манеру чтения Пришвина. Оба любили драматические сюжеты. Уход Толстого, трагедия последнего года его жизни – вот сюжет, вот «предмет» (это слово особенно любил Гачев), достойный не просто чтения, а «вникновения», проникновения «до корней, до сердцевины». Георгий Гачев «входил» в читаемый «предмет» целиком, жил в нем так, что возникающая при этом «жизнь вместе», например с Толстым, оказывалась его собственным – гачевским – жизнетворчеством. Он решал при этом свои вопросы. Пытался найти ответ на них, вникая в семейную и духовную драму Толстого, искал в ней способ развязки своих жизненных узлов – с супругой, детьми или с самим собой. Поэтому его чтения становились практически важными моментами его жизнемыслия и, одновременно, точками роста его умозрений.
Кстати, гачевское слово (жизнемыслие) соответствует пришвинскому «творчеству жизни», то есть «жизнетворчеству» (сегодня слово это изрядно заболтано пишущими о «специфике русской культуры Серебряного века»). Читая дневник Толстого 1910 г., Пришвин, подобно Гачеву, перебрасывался мыслью на свои проблемы с Ефросиньей Павловной или сыном Львом. При этом охват возникающих при чтении мыслей, как и у Гачева, восходил у него до космических масштабов (мужское и женское, философия пола и творчества, дух и материя и т. п.). Оба писателя стремились через быт осмыслить бытие.