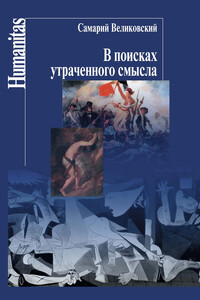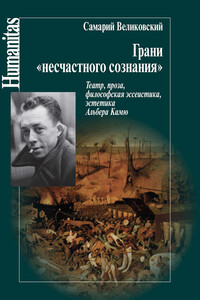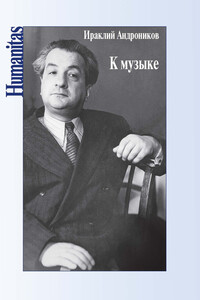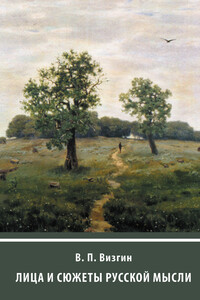Думать и писать Пришвин мог только при свете пылающей мечты. Как только одна мечта отгорала, он сразу же устремлялся к другой, чтобы жить ее теплом и светом. Добравшись до Северного ледовитого океана, проплавав с поморами по его суровым волнам, посмотрев на их жизнь при полуночном солнце, Пришвин почувствовал, что свой настроенный на Север «эрос»[55] (как сказал бы Гачев) он уже насытил, и пора менять галс. «Я уже пережил Мурман, – пишет он, – мечтаю о Норвегии, о возвращении к своим привычкам, занятиям…»[56]. Поморский берег ему уже в тягость. Он его «пережил», как ему кажется.
Гачев аналогичным образом жил своими переменчивыми мечтами. Мечта допекала его, он поддавался ее чарам. А потом, погружаясь в пережитое ее воплощение, он по горячим следам записывал свои впечатления, пока, наконец, его конкретно ориентированный «эрос» не терял свою силу. Затем приходила новая мечта. И все повторялось. Такими объектами мечтательных тяготений у Гачева были не столько этногеографические ландшафты и природные экосистемы, как у Пришвина, сколько национальные «психокосмологосы». По сути дела, описывая жизнь лапландцев на Имандре или поморов на Мурмане, Пришвин делал то же самое, что и Гачев, хотя этого технического термина у него нет. Но дело не в термине, а в сути дела. А она была у Пришвина-очеркиста практически той же самой, что и в работе над очерками ментальностей народов мира у Гачева. Его умозрения с целостным погружением в материал, питаемые встречей с интересуемым его национальным «психокосмологосом», даже методически были похожи на то, как работал Пришвин. Но при этом были и существенные различия. Можно сказать, что у Гачева больший удельный вес, чем у Пришвина, приходится на культурологическую книжную составляющую его очерков национальных культурных миров. В своем искусстве Пришвин больше, чем Гачев, реалист и даже ученый-наблюдатель. Но при этом поэзия природы края, по которому путешествует Пришвин, поражает нас, пожалуй, больше его этнографически-культурологических наблюдений, для которых путешествие давало материал. По части же метафизических фантазий Гачев опережает Пришвина, который проявил себя метафизиком преимущественно в своих дневниках.
Пришвин как писатель начинал с очерка, материал для которого собирал во время путешествия по манящим его мечтательное сердце местам. Как писатель-очеркист он удивительным и оригинальным образом соединял научно-реалистический рассказ натуралиста-этнографа о виденном и услышанном с художественным его преображением. Научно-объективное измерение творчества при этом выступало в художественном преломлении, немыслимом без активности авторской «субъективности».
Стилистика Гачева как очеркиста национальных ментальностей во многом аналогична пришвинской поэтике. Обратим внимание на его опыт освоения естествознания «глазами гуманитария». Одна из первых работ в этой серии называлась «Гипотеза Канта – Лапласа и национальные образы Вселенной» и имела подзаголовок «Опыт художественного анализа научной гипотезы»[57]. Как и Пришвин, Гачев был устремлен к тому, чтобы ввести художественное начало в научно ориентированную культуру. Мечта Пришвина, задающая определяющий тон всему его жизнетворчеству, состояла в том, чтобы, говоря его словами, «соединить поэзию, науку и жизнь»[58]. Сходство Пришвина и Гачева мы констатируем на уровне глубоких предрасположенностей духа, стремящегося соединить, гармонизировать научно-философское познание и художественное, сочетая рациональность и эмоциональность, рассудок и сердце. В этом они оба предстают как типично русские мыслители.
В писательской среде они оба, но по-разному, были как бы маргиналами, сторонились писательских компаний, хотя редко надолго с ними порывали. Писатели-на-отшибе, писатели-хуторяне, писатели-кулаки, если угодно. У обоих в состав их ума входила солидная практическая подкладка. Оба умели отстоять себя и своих близких перед безликим начальством. Оба были по-житейски смелыми и шли прямо на то, что тревожило, казалось опасностью и грозило взбудоражить жизнь.