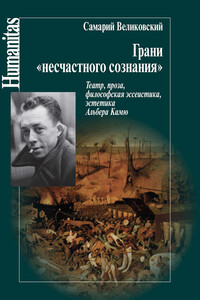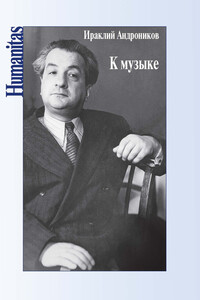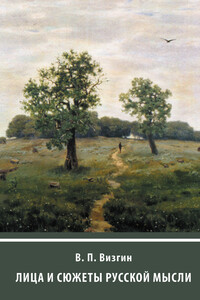Позже, в конце студенческих лет, пришвинскую Дриандию, его «Берендеево царство» я нашел на Валдае, в затерявшейся среди озер и лесов деревне. Пришвин тогда не входил в круг моего чтения, если только не считать упомянутого сборника «Незабудки» (1960), составленного по дневникам писателя Валерией Дмитриевной Пришвиной. Как раз в начале 60-х годов, когда сосны и озера Валдая околдовывали меня своей красотой, я читал эту небольшую, в синем переплете книгу. Удобный формат позволял носить книгу в кармане куртки и читать на опушках великолепных валдайских боров и среди всхолмленных полей, покрытых то голубым льном, то рожью с васильками, которых сейчас и не увидишь.
«Незабудки» читались в стремительные годы разнообразных впечатлений и попыток собственного писания, ставшие стартовыми для всей последующей жизни. Я был студентом-химиком, как и сам Пришвин, о чем, правда, мне тогда вряд ли было известно: «Кащееву цепь» я читал позднее, хотя уже давно о ней слышал от матери. В те далекие годы у меня был один друг, сейчас он известный философ. Мы вместе учились, вместе покупали и читали книги, горячо их обсуждали. Поэтому и первое упоминание о пришвинских «Незабудках» связалось в памяти именно с ним. Когда он был аспирантом на кафедре физической химии, а я, окончив химфак, но оставив химию, стал аспирантом кафедры философии естественных факультетов МГУ, то наше общее чтение охватывало почти все, что можно было найти в Москве. Много дала горьковская библиотека университета на Моховой. «Незабудки» тогда только что вышли, их свободно можно было купить. Я так и сделал. Читал я эти пришвинские записи, как уже сказал, на Валдае.
Там чтение было в моем духе – на проселке вдоль поля с каймой леса, с виднеющимся сквозь сосны озером, на приозерных горках, откуда открывался вид на озерные плесы и окрестные леса, в тиши деревенской веранды, за досками которой, правда, тяжелыми бросками метались крысы, пугавшие впечатлительное воображение. Если сейчас, с высоты прожитых лет посмотреть в покрытую дымкой забвения долину того далекого времени, то поразишься страстности интереса ко всему на свете. В валдайскую деревню я возил, например, как не осиленные до конца «Принципы квантовой механики» Дирака, так и с наслаждением проглоченные «Будденброки» Томаса Манна. Дух тогдашней жизни был гуманитарно-литературный, хотя естественные науки в иерархии интеллектуальных ценностей стояли высоко, все время обсуждались и продолжали стимулировать мысль. Летом на Валдае, в соседней деревне Ново-Троицы, жил один престарелый московский литературовед. Имени его я уже и не помню. Его жена, цыганистого вида женщина, с которой я главным образом и общался, была значительно моложе. Эта литературная семья снабжала меня последними выпусками «Нового мира», которые я уносил к себе в деревню по бесподобным беловатым, чистейшим и сухим, как порох, мхам ново-троицкого бора.
В кармане книжечке Пришвина было просторно. Я носил ее по лесам и лугам и записывал на ее форзаце стихи. В их стихию в те годы я погрузился целиком и полностью, как до того в гегелевскую «Логику», а еще раньше – в «Капитал» Маркса. Не скажу, что с тех пор «Незабудки» стали моей настольной книгой, что именно ее я взял бы, как говорят, «в космос». Отнюдь, нет. Но она внимательно, с карандашом была прочитана. Однако вряд ли ее, такую простую и ясную для меня сейчас, я мог понять тогда – всю и в самом главном. Слишком молод я был, слишком молоды мы были с моим другом, чтобы остановиться на Пришвине. Но книжку его высказываний мы прочитали, что-то нам запомнилось, а что-то даже выписали из нее и оставили на полях свои пометки. Но не из Пришвина лепилось мое тогдашнее мировоззрение. Быть может, правда, он как-то неприметно стоял за его возникавшими контурами, но стоял ненавязчиво и совсем не на переднем плане, на котором были, конечно же, знаменитые, именитые философы – Ницше, Шопенгауэр, Бердяев.
Выпишу некоторые сохранившиеся с тех лет записи на полях «Незабудок» и поясню их. Творить – значит вступать в отношение к другому как к самому себе