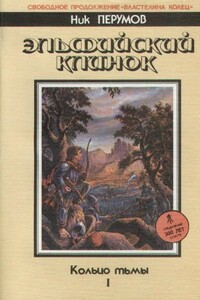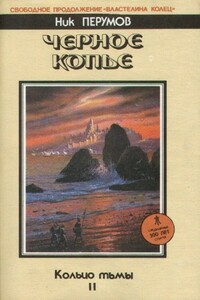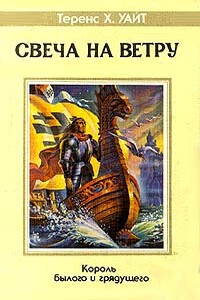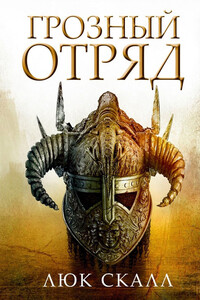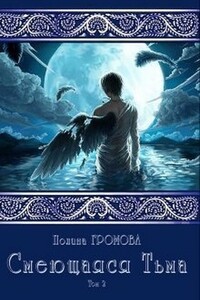Я обошел группу сзади вместе с Туттугу.
— Я думал, ладья будет… ну, подлиннее.
— Это снеккар.
— А-а!
— Маленький. — Туттугу ухмыльнулся моему невежеству, хотя думал сейчас, наверно, о том, что сказал Снорри.
— Двадцать скамей — на скеях бывает вдвое больше. Наша называется «Икея», в честь дракона, ну, знаешь.
— Ага.
Естественно, я не знал, но соврать было проще, чем выслушивать объяснения. Меня даже их лодка не интересовала, но, похоже, очень скоро мне предстояло вверить ей себя. Она была не очень большой — вдвое больше снеккара, но количество и скорость этих лодок — сильная сторона норсийцев. Оставалось молиться, что в опытных руках чертовы суденышки, по крайней мере, сразу не потонут.
Мы поставили табуретки вокруг длинного помоста, и несколько местных разумно предпочли пересесть. Снорри заказал эля и сел во главе стола, глядя, как ветер треплет паруса снеккара над портовой стеной. Небо позади было затянуто мрачными темными тучами, шел дождь, но тут же лились косые лучи послеполуденного солнца.
— Вальхалла!
Снорри схватил с принесенного служанкой подноса кружку с пенящимся элем.
— Вальхалла!
По столу застучали.
— Воин боится не участия в бою, а того, что сражение может закончиться без него, — этого не изменит сколь угодно великая доблесть. — Снорри завладел их вниманием и сделал долгий глоток. — Я не бился в Эйнхауре, но слышал о нем от Свена Сломай-Весло, если с этого змеиного языка может сорваться хоть слово правды.
Команда «Икеи» обменялась взглядами, что-то бормоча. Тон реплик, которые я уловил, не оставлял сомнения, что они не слишком уважали Сломай-Весло.
— Битву при Восьми Причалах я застал, и она больше напоминала резню. Я выжил, но каждый день стыжусь этого.
Он снова выпил и все рассказал.
Солнце опустилось, тени стали длиннее, мир был где-то рядом, но мы его не замечали. Снорри зачаровал нас своим голосом, и я слушал, прихлебывая эль, но не чувствуя вкуса, хотя уже слышал все это раньше. Все до того момента, как он пришел в Черный форт.
Когда Снорри впервые увидел черное пятно, то подумал, что умирает и ему отказывает зрение, что дикая пустошь убила его. Но пятно оставалось на месте и росло по мере того, как он, шатаясь, приближался. И со временем оно стало Черным фортом.
Построенный из огромных блоков, высеченных из древних базальтовых щитов, что лежат под снегом, Черный форт дерзко противостоял Суровым Льдам, он казался совсем маленьким на фоне исполинских ледяных утесов восемью километрами севернее. За все долгие годы существования форта лед отступал и наступал, но ни разу не подошел к черным стенам, словно крепость была последним стражем, берегущим человека от владычества ледяных великанов.
Собравшись с силами при виде твердыни, Снорри подошел ближе, закутавшись в плащ из тюленьей шкуры, весь в снегу. Восточный ветер усилился, проносясь по льду, поднимая в воздух мелкий сухой снег и крутя поземку. Снорри подался вперед, прямо в зубы ветра, вырвавшие у него последние остатки тепла, каждый шаг грозил падением, после которого он бы уже не встал. Когда форт перекрыл своей массой ветер, Снорри едва не свалился, будто лишившись опоры. Он и не знал, что уже подошел так близко, и толком не верил, что достигнет цели. С укреплений никто не смотрел на него. Все узкие окна были закрыты ставнями и засыпаны снегом. У огромных ворот не было стражи. Тело и разум Снорри окоченели, он застыл в нерешительности. У него не было плана, лишь желание закончить то, что он начал в Восьми Причалах и что должно было быть завершено здесь. Он пережил двоих из своих детей. У него не было желания пережить Эгиля и Фрейю — лишь биться, чтобы спасти их.
Снорри страшно ослабел, но знал, что, если будет ждать в снегу, лучше ему не станет. Взобраться на стены форта он не мог — это все равно что штурмовать утесы Суровых Льдов. Он взял обеими руками Хель и ударил отцовским топором в ворота Черного форта.
Прошла, казалось, целая вечность, когда наверху открылись ставни и на голову Снорри посыпались снег и обломки льда. Когда он поднял голову, ставни снова закрылись. Он опять принялся молотить в ворота, зная, что ум его затуманен и замедлен от холода, но больше ничего не мог придумать.